Блики рефлексии
* * *
Всякая вещь воспроизводит себя в очень разных отношениях. Как именно мы будем об этом говорить — зависит от наших нынешних интересов. В других условиях то же самое придется сказать иначе. В других условиях то же самое придется сказать иначе. Может быть, даже наоборот. Это не измена себе, не переход из одного лагеря в другой, — это отстранение от лагерности как таковой, свобода выражать себя не готовыми формами, а всем, что попадется под руку, — включая и старые формы: мы меняем их, чтобы по-разному увидеть себя.
* * *
Философия не наука — и никто не обязан блюсти единство номенклатуры. Предметность науки привязывает ее к определенному контексту, к некоторой иерархии деятельностей. Но философия занимается, главным образом, общностью разных контекстов — так что никакая терминология не успевает устояться. Приходится за словами усматривать суть дела, и не верить уж очень детальным описаниям.
Разум как философская категория определен лишь в триаде уровней духа:
|
сознание → самосознание → разум
| |
Но когда мы говорим о людях как разумных существах, мы вовсе не имеем в виду только разум — не отделяем его от сознания и самосознания; такое словоупотребление оправдано, поскольку разум понимается как синтез двух других членов триады. Соответственно, в строении духовности ("психологическая" триада)
|
индивидуальность → личность → социум
| |
каждый уровень предполагает все три стороны духа, а не что-то одно. Однако если речь идет об истории — мы обязаны считаться с тем, что развитие самосознания (логически и хронологически) следует за развитием сознания, и что разумность требует вполне сложившейся противоположности сознания и самосознания. Точно так же, как уровни единичного субъекта, сознание, самосознание и разум стоят в определенном порядке, представляя снятые этапы индивидуальной истории. Обращения иерархии в данном случае связаны с логикой рассмотрения, а не с логикой предмета.
* * *
Борцы за права женщин — они же борцы против женского неравенства... А что с одного боку — то и криво. Заявляя, что женщина тоже человек, они неизбежно подчеркивают слово тоже; то есть, предполагается, что есть мужчина — эталон человека, — а женщины лишь какими-то местами эталону соответствуют. Говоря о правах женщин, подразумевают не возможность быть собой, а общественные привилегии, якобы позволяющие чувствовать себя на равных — но по факту утверждающие неравенство на новый лад, с перекосом в другую сторону. Точно так же, забота о жизнях негров — выставляет белых недостойными жизни; забота о детях — не дает им стать по-настоящему взрослыми.
* * *
Когда человек разумный что-либо делает — это не для кого-то, а только для себя. Потому что не может иначе. Для него это единственно разумная линия поведения. Он не ждет благодарности, ему не страшны проклятия. Он делает то, что считает нужным, — или не делает ничего, если считает нужным неделание. Только тогда человек становится по-настоящему общественным существом.
Человеку будущего не надо никуда спешить, ничего добиваться... Он знает, что его труд найдется кому подхватить — и что ни одно свершение не будет напрасным.
* * *
В истории, слишком опередить свое время — значит, налететь на стену и быть отброшенным назад с той же стремительностью. Пропуск необходимых ступеней подрывает основы дальнейшего развития способа производства, поскольку зачатки нового должны созреть в определенных экономических условиях. Без этой основы — застой, уязвимость и слабость. А классовое общество не прощает исторических ошибок: хищники-соседи тут же слетятся на остатки былой роскоши...
* * *
Несмотря на зарождение философской проблематики в древней Греции, философия в античности не могла сложиться как особое культурное образование — хотя и существовала как культурное явление. Точно так же, не было ни науки, ни искусства, — в современном, институированном понимании. Была аналитическая (в смысле отделенности от синкретичного бытового сознания) рефлексия вообще, соединяющая признаки искусства, науки, философии. Античный художник — это всегда и (натур)философ; философия же остается преимущественно орнаментальной и больше напоминает искусство ритора. Метод Аристотеля — лишь внешне аналитический (что тоже немало — ибо из внешней необходимости вырастает внутренняя потребность); на деле же размышления о правильном устройстве природы и общества здесь всецело остаются в рамках герменевтики, толкования налично данного, — ближе к искусству. Для науки — не хватает формальности (следствие неопределенности предмета). Для философии — недостает содержательного единства. Переодетая платоновская Атлантида...
Иначе: уже сложившиеся различия в способе производства лишь в конечном итоге, спустя некоторое время, ведут к изменению способа отражения, уровня рефлексии. Откуда эта задержка? Очевидно, из-за того, что продукт деятельности не становится автоматически ее объектом (как воображают себе математики): для объективации плодов труда нужна особая деятельность, а ее просто не может быть, пока для нее нет объекта.
Точно так же, уже в первобытном человеке есть все предпосылки разумности — но стать разумным человечество не сумело до сих пор.
* * *
Две крайности: вульгарный материализм и мистика. Незрелость самосознания. Мы чувствуем, что в нас сочетаются материя и дух — но не улавливаем их единства; мы догадываемся об их способности перетекать друг в друга — но не понимаем принципиального различия. Мы вынуждены зарабатывать на жизнь — но жизнью считаем лишь то, что не требует расплаты.
* * *
У нас нет прямых данных о движениях духа первобытного человека. Но мы знаем, что наша духовность стоит на этом фундаменте, и потому принципиальная возможность написать такую историю у нас есть. Как? Исходя из принципа историзма. Две стороны настоящего — прошлое и будущее. Наши мечты задают направление —и в прошлом мы ищем похожие черты, по контрасту с цивилизацией, заполняя лакуны и сопоставляя окаменелости.
* * *
Умные люди придумали много интересного. Но господам вовсе не интересно, чтобы интересная жизнь была у всех. Как сделать вкусное невкусным? Пресловутая ложка дегтя. Идеологические извращения. Лучше испортить, чем пустить на общую пользу.
Бороться с извращенцами надо не только в плане развенчивания благоглупостей — но еще и потому, что они (сознательно или нет) занимаются опошлением уже достигнутого: якобы невинные пташки испражняются на памятники. Буржуазия борется с марксизмом — значит, надо найти, чем марксизм так уел господ, что они не жалеют денег на его опошление! Именно это и надо всячески поддерживать и развивать.
* * *
Пока мужчины и женщины телесно различны (имея в виду прежде всего неорганическое тело человека), будут и различия в становлении духа. При этом типичное для ранних этапов развития цивилизации отстранение женщин от воспроизводства неорганического тела ограничивает сознание женщин — но тем самым приводит к опережающему развитию самосознания (обращение иерархии). Отсюда преобладание женской индивидуальности над мужской на всем протяжении классовой истории — и только развитый капитализм позволяет (хотя бы в принципе) уравнять производственные функции полов, подойти к идеи духовности как таковой.
* * *
Эмпиризм опирается вовсе не на опыт — он держится на суевериях и предрассудках. Называть их "опытом" — жульничество, опошление идеи; но таковы методы буржуазной пропаганды, религии, морали и права. Эмпирик будет всеми конечностями отбиваться от фактов — ссылаясь на мнения обывателей, которые не в состоянии вообразить себе ничего такого. Спустя много лет, когда революционные идеи поблекнут, выродятся в попсовую банальность, они станут частью "эмпирического" миросозерцания — оружием борьбы против будущего.
* * *
По логике, из ложных посылок можно вывести что угодно. Только благодаря этому обстоятельству существует наука. Любые основания шатки — но это не повод остановиться на вводных разделах, отметая науку целиком из-за сомнительности предпосылок. В конце концов, нас интересуют именно выводы — и не особо волнует, откуда они взялись.
* * *
Нет гроба — нет и загробной жизни...
Первобытность не различает членов рода — все на одно лицо, одного можно заменить другим. Тело зарыли — жизнь продолжается. Всеобщая одушевленность, первобытный анимизм. Поэтому смерть человека — лишь переход в иное качество.
Появление государства — отделяет мертвых от живых. Хотя бы потому, что эксплуатировать мертвых сложнее. Но в хозяйстве и мертвые души сгодятся — и возникает представление о складировании усопших в особых запасниках (Египет, Междуречье, Древняя Греция). Поскольку души для древних неотделимы от тел — тот свет принимает людей во всей их телесности, и это полезно: с одной стороны, можно поиздеваться над покойником для устрашения живых — но можно и подать надежду на будущее воскрешение во плоти (в некоторых религиях — не обязательно своей).
Эксплуатируемым массам такие сказки без особой надобности: хватает и земных забот. Перспектива сделать мучения вечными — радует лишь последних извращенцев. Возвращаться к прижизненным сложностям — тоже не мед. Вместе с угрозой потустороннего мира — возникает и оппозиция, критическое отношение к поповским россказням и призывы жить здесь и сейчас, пока хоть что-то изредка перепадает. Лишь много веков спустя появляется материальная основа для физического бессмертия, переселения в неорганическое тело — возможность стать частью общечеловеческой культуры. Но до тех пор, пока не сложится человечество как целое — без классовых (половых, возрастных, этнических, и прочих) различий, — наше бессмертие остается только возможностью, и надо хорошо потрудиться, чтобы имело смысл снова становиться бессмертными.
* * *
Народные песни и сказки перебрасывают мостик от первобытности к средневековью, становятся общим фоном тысячелетий.
Первоначально — народные обрядовые действа. Таковы, например, шумерские Если бы не мать моя... и Когда я госпожа...; то же в библии: Песнь песен. Потом действие сокращается до абстрактного жеста — превращается в танец. Появление музыкальных инструментов (помимо голоса) — возможность отделения музыки от слова. Это в равной мере касается и поэзии, и прозы; одно зачастую перетекает в другое (как в библейских книгах пророков).
Народная традиция связывает культуры не только во времени, но и в пространстве: например, старинные романские песни оказали влияние на стихотворные изыски арабов — которые иногда лишь намекают на испанские сюжеты, а иногда и вставляют куски на чужом языке...
* * *
Живое бесконечно разнообразно — это так умиляет всяческих зеленых человечков! Они умалчивают, что достигается такое, внешнее разнообразие за счет видовой специализации, жесткого ограничения возможностей индивида. В разуме — внешнее снимается и становится внутренним разнообразием, универсальностью. Единичный субъект — равен вселенной, в нем она представлена целиком. Осознание этой всеобщности в единичном делает неуместными призывы ограничить движение духа, вписать его в "цивилизованные" рамки: ограничивать можно лишь тела — при условии, что ограниченность одних тел всегда возможно компенсировать вовлечением в деятельность других. Тем более недопустимо нагромождение барьеров на пути человеческого, духовного общения — попытки убить любовь.
* * *
В отличие от большинства древних культур, в Древнем Египте нет эпоса, не сложилась мифологическая космология. Его литература ближе к фольклору — записи и обработки песен и сказок.
Почему? Вероятно, время не пришло. Судя по известным источникам, централизованное рабовладельческое государство в эпохи Древнего (и даже Среднего) царства существовало лишь номинально, как общность многочисленных родоплеменных образований, плетущих бесконечные интриги в борьбе за власть. Фараон во многом играет роль военного вождя — как в союзах североамериканских племен. Нечто подобное в Европе возрождается на заре средневековья. Есть аналогии и с историей Древнего Китая (пестрота локальных культур). Лишь в Новое время египетская литература порождает нечто вроде эпоса — история трех поколений семьи. Но без космологических обобщений, приземленно, бытовые зарисовки.
Древнейшая литература Междуречья в целом очень похожа: частичная канонизация текстов — явление сравнительно позднее; школы писцов — собиратели пословиц и сказок (удобный материал для обучения письму). Устоявшиеся обрядовые тексты — учили наизусть и не записывали; от них лишь реминисценции в чем-то другом. Местная особенность — таблички с текстами песен в частных домах; по всей видимости, у писцов заказывали запись традиционной родовой песни (подобных тем, что известны у многих народов на родоплеменной стадии развития) — скорее всего, в качестве предмета культа разумеется, а не для чтения — для этого у большинства просто не хватило бы грамотности (неоднозначность древнейших письменностей, насыщенных "мнемоническими" знаками, которые расшифровать мог только знающий, представляет главную трудность при современной дешифровке).
Повсеместный переход к систематизации текстов и перерастанию их в относительно связные эпические полотна — в конце второго тысячелетия до н. э.; это уже гомеровская эпоха. Вавилонский эпос о Гильгамеше — родственник Илиады, и точно так же он собран из фрагментов разного характера, из разных времен. Литературные достоинства — плод труда многочисленных переписчиков: принцип отбора и порядок записи — имеют значение! Притирка одного к другому в ходе объединения, приведение к единой стилистике, — совершенно естественный процесс. Но главное — осознание реального этнического единства (в отличие от Египта). Независимо от формы правления.
Бесспорно, вавилонские тексты — настоящая литература. Но грубоватые шумерские — намного поэтичнее, они из самого сердца народа. В них мотивы будущей европейской культуры.
* * *
Философия не вписывается в рамки искусства или науки — но она использует все возможности. На уровне мифологического сознания — философия воплощается в миф. Когда античное искусство начинает обособляться в самостоятельную область культуры — философия принимает форму искусства. Иногда это выглядит грубо, далеко от художественности (как у Платона). Куда больше изящества предлагает эллинистический роман: вполне серьезные темы Татий, Лонг и Апулей трактуют тоном сказки, заимствуя элементы тысячелетней народной традиции. Разумеется, вполне совместить мудрствование с искусством пока не удается, и рассуждения выпирают из текста инородной тканью; однако налет сказочной наивности гармонирует с простодушием фольклора, где обобщающие сентенции рассказчик запросто вставляет в произвольное место повествования.
Точно так же, первые представления о научном методе наталкивают на мысль о формальном построении философии — или хотя бы о частичном упорядочении, когда единство сводится к единообразию схем. Отсюда многочисленные наукообразные трактаты: от Аристотеля до Спинозы, Канта, Гегеля, — и далее, вплоть до наших дней. Смотрится такое философствование грубовато — ему тут же начинают возражать всякие "постмодернисты" и мистики... Однако пока нет отношения к философии как необходимому уровню рефлексии, в дополнение к искусству и науке, возражения оказываются шагом назад — бегством от сложности в синкретизм.
Для художника любовь — образ, для ученого — иерархия понятий. Философия делает любовь всеобщей категорией, показывает как неотъемлемую часть и основу всякой духовности. Но все это — лишь тени любви, которая в полной мере раскрывается лишь в способности человека разумно действовать: не мечтать о других мирах, а сделать этот, единственный, — другим.
* * *
В XIX веке, и в начале двадцатого, — разговоры о нескольких людях в одном органическом теле могли навести наводили на мысль о психической неполноценности... Единая личность, распределенная по нескольким телам — чуть менее экзотично: хотя бы метафорически приемлемо.
XXI век все меняет. На одном и том же железе — десятки виртуальных компьютеров. Сервисы и виртуальные рабочие станции — разбросаны по узлам всемирной сети. Искусственный интеллект изначально нелокален. Так почему один мозг не может обслуживать очень разные индивидуальности? Синхронизация разных — даже не требует вживленных устройств: достаточно социальных сетей. Для разума биология не важна — ее можно придумать, или полностью перейти на неорганические носители.
До каких пор мы будем цепляться за фотографии и паспорта?
* * *
Свобода не абсолют. Это общественное отношение.
* * *
Идеал потому и идеал, что так в жизни такого бывает. Это наш измерительный инструмент, при помощи которого мы проверяем практическое действие на разумность, соответствие намерению, — учитывая, конечно, уместные допуски и посадки. Можно, конечно, шагать наобум, уповая на русский авось. Но если стоит задача укрепления разума — то и двигаться к цели следует разумно, выверяя планы по осознанному идеалу. Принцип нерыночного планирования — от главного к частностям, свобода в деталях реализации, а не догма цифири.
* * *
Начинать освобождение труда (человеческого духа) приходится с рефлексии: пока производство недостаточно развито, материальных ресурсов на всех не хватит — а идеи тем значительнее, чем шире круг знакомства; делиться духовном богатством — значит преумножать его.
* * *
Всякий труд — соединенные усилия человечества в целом, и продукт труда — общее достояние. Идея собственности — изначально неразумна, это форма животности. Человек будущего — ничего не делает по указке извне. Но он не вправе замкнуться в себе, ибо разумные существа призваны создавать миры. Отсюда отношение к труду: осознание его общественного характера предполагает и стремление обобществить результат.
Например, стихи, научный или философский трактат — не ради чего-то, а по велению души, — потому что нельзя иначе. Нет никакой надобности предъявлять это окружающим, изображать из себя поэта, ученого или философа. Не для чего рекламировать продукт; но сделать его общедоступным — святая обязанность творца, неотъемлемая часть творчества. Не столь важно, как именно текст будет опубликован: пойдет по рукам, появится в печати, или будет валяться на пыльных задворках интернета; важно, чтобы другие могли, хотя бы в принципе, это заметить — и были свободны это использовать.
* * *
Мир воспроизводит себя через (посредством) субъекта. Именно поэтому возможно целенаправленное изменение мира. Элементарный акт рефлексии (воспроизводства мира) предполагает мир как источник и основу (исходный пункт); с другой стороны — тот же мир как назначение, как продукт деятельности. Важно не просто сделать — привести в единство с остальным, сделать всеобщим, обобществить.
Окультуренные вещи связаны между собой не так, как природные. Субъект снят — но мы чувствуем его дух. Человек как совокупность вещей — проявляет себя закономерными переходами одного в другое: регулярность и воспроизводимость воспринимаются как природный закон; необходимость воспроизводства строения культуры, способа производства — органический уровень. Единство единичностей — деятельность, активное связывание одного с другим, "открытие" новых законов и перестройка производства в целом. Только все вместе вещи обнаруживают атрибуты мира вообще; особенно это важно для разума: коллективность. Точно так же, самосознание — организует наше сознание, а разум — сознательное самосознание.
* * *
Вероятно, допустимо сформулировать принцип опережающего развития духа, по сравнению с материальным производством. Дух подвижен: его достаточно слегка подтолкнуть — и он улетает под облака, и потом приходится в чем-то приземлять его. Когда способ производства дорастает до определенного уровня — уже ясно, во что все выльется; дух нового времени витает над миром. Это повод помечтать, отпустить на волю смутные предчувствия. Но у человека не бывает беспочвенных фантазий — и он стремится любую сказку сделать былью. Духовное развитие прямо влияет на материальное производство, вмешивается в постановку практических задач.
В этом великая сила образования и воспитания.
* * *
Принято считать, что переход от кочевого образа жизни к оседлости связан со значительным изменением общественной организации, — это своего рода исторический этап, граница эпохи. Точно так же, возникновение городов — как возникновением цивилизации в узком смысле слова (этимологически: городская культура). Искони деревня боялась и презирала скотоводов-бродяг — а город на всех глядел свысока. Первый рубеж — прослеживается в шумерских легендах, тогда как вавилонский эпос — гимн городу...
Но чем, собственно, отличается оседлая жизнь от кочевой? Что дает ей культурные преимущества (если таковые вообще есть)?
Устойчивый признак общности — собственная территория. Но такое разграничение возникает уже в ранней первобытности: оно прямо заимствует животные формы (от ареала обитания вида до меченой территории у хищников). Здесь мы не видим существенных различий: кочевники устанавливают границы своих владений, оседлые народы мигрируют и разделяются на ветви (как у древних греков: выведение полисов, колонизация, экспансия).
Говорить об относительной устойчивости оседлой экономики тоже не приходится: неурожай или разгул стихии запросто может выкосить население сотен сел; но и у кочевников нет гарантий от эпидемий и падежа скота.
Есть, правда, привязка ремесел к природным ресурсам, из-за чего кочевая жизнь ограничивает разнообразие, оставляет лишь самое необходимое для поддержания быта, а в остальном полностью зависит от оседлых рудокопов. В каком-то смысле это примат индустрии, равно обуславливающей и земледелие и скотоводство, — но не вопрос взаимоотношений села и степи.
Стабильность условий в любом случае способствует развитию трудовых навыков — и оседлая жизнь благоприятствует созданию крупных инфраструктур. С другой стороны, подвижность кочевья делает его своеобразным разносчиком технологий — и создает предпосылки товарного обмена, включая транспорт сырья, и тем самым ослабление локальности ремесла и промышленного производства. Налицо дополнительность двух древних миров, противоположность которых снимается цивилизованным (городским) государством.
Однако помимо собственно экономических факторов — есть еще и вопрос материализации духа. Теоретически возможно перевозить награбленное с места на место. Ставка кочевого вождя подвижна, и располагается где угодно. Однако концентрация богатств неизбежно ведет к оседлости, как только само понятие богатства расширяется на все потенциальные предметы обмена, а не только стада и табуны. Завоевывая чужие страны, кочевники разрушают чуждую им культуру; и все же они вынуждены использовать старые поселения, как минимум, в качестве опорных баз — поскольку иного средства удержать завоеванное просто нет. Чем обширнее власть — тем больше она нуждается в символах. Такими символами становятся единство права (воплощенное в городах) и единство религии (материализованное в культовых сооружениях). Нематериальный дух оказывается достаточно сильным, чтобы намертво привязать кочевника к земле, а село (включая крепости местных князьков) поставить в зависимость от крупных городов, центров цивилизации.
* * *
Рефлексия по поводу рефлексии легко упускает из вида исходный предмет и подменяет его частными представлениями. Так, начиная с древнейших форм классового расслоения, воспитание и обучение тесно увязаны с потребностью воспроизводства общественного неравенства, так что каждый член общества определен лишь в его отношении к наличным (уже осознанным) общественным структурам — и видится всего лишь совокупностью общественных отношений. Отсюда крен всех без исключения моралистов и строителей разного рода утопий в сторону полезности личности для общества; индивидуальные вкусы и склонности приемлемы лишь в плане потенциальной пользы (хотя бы в качестве следования культурной традиции и возможности влиять на характер общения). Античная философия делает идеальную личность зеркалом полиса; средневековье закрепляет разнообразие сословной иерархии; капитализм все сводит к рыночной конъюнктуре... Свобода личности начинается там, где она ценна сама по себе (в том числе и в собственных глазах), — так чтобы не только общество воспитывало достойных его личностей, но и личность стимулировала общество стать равным ей.
* * *
Книга — это не только передача информации, перекачка кодов из одного устройства в другое. Книга представляет личность (единичную или собирательную) — и общаемся мы не с пачкой бумаги (и не файлом в компьютере), а с другими людьми, и через это с собой. Та же личность может быть представлена тысячами других вещей — но мы узнаем любимых по одной характерной черточке, восстанавливаем картину целиком. Быть может, нам иногда не столь важно, что там, внутри, написано: общий вид уже наводит на духовное путешествие. Поэтому оформление книги — предмет пристального внимания и неусыпной заботы. Это не случайность, это тоже текст. Расположите стихи на странице иначе — и это будут другие стихи. Измените структуру трактата — и это будет другой трактат. То, что автору может казаться нудной технической работой, — такое же творчество, как и связывание идей или их материализация. В этом активность формы — она не только ограничивает автора, но и ведет его за собой. Стржеминский считал, что пространство холста — клетка для художника, и надо выходить из плоскости в окружающий мир. Но почему мы должны быть всегда одинаковыми? Материал и форма не противостоят содержанию, они соединяются в нем. И можно избрать вполне традиционную форму — раздвинув ее границы до бесконечности, сделать ее формой свободы.
* * *
Распределение деятельности — основной механизм связывания людей в общество. Но он же меняет само понятие действующего лица, отделяет продукт деятельности от деятеля. Когда одно и то же делают многие — мы не можем определенно сказать, кто сделал то, чем мы пользуемся в данный момент. Когда продукт требует соединения усилий тысяч и миллионов людей — вопрос об авторстве вообще снимается с повестки дня.
В промежуточном варианте — мы можем соотносить продукт с деятельностью некоторой группы, с коллективным субъектом (границы которого, впрочем, довольно расплывчаты). В частности, поручая дело коллективному субъекту, мы не интересуемся деталями внутренних взаимодействий: для нас это распределенный субъект, виртуальное образование в некоторой сети. Мы можем назвать эту виртуальность каким-то именем — и для нас она совершенно неотличима от обычного субъекта, привязанного к биологическому телу. Когда несколько таких субъектов могут делать одно и то же, они в свою очередь объединяются в субъекте более высокого уровня, которого тоже можно как-то поименовать. В пределе, когда субъектом любой деятельности станет общество в целом, выделение индивидуальностей потеряет смысл, и имена будут не нужны. По любому вопросу мы обращаемся не лично к кому-то — а к обществу целиком, и для этого у нас есть специальные (общественные) органы.
Возможна ли в таком мире любовь? Безусловно возможна. Однако ее формы станут принципиально иными, почти непредставимыми для выросших в недрах цивилизации.
* * *
Наша суета — от животности, от привычки к единичному телу.
Космическому человеку некуда спешить: у него другие масштабы.
* * *
У духа нет массы покоя — и он движется в любой системе отсчета.
* * *
Если субъект деятельности становится всего лишь состоянием сети, ресурсы, используемые для реализации этого состояния находятся в общем пользовании. Другими словами, общественным становится не только производство, но и потребление. Одно и то же биологическое тело (или физический компьютер) используется для разных задач — и представляет разные индивидуальности. Разумно устроенное общество обеспечивает возможность такого распараллеливания, при занятости одного ресурса оперативно подключая другой. Здесь особенно важна универсальность, возможность передать функцию от одного другому, достигать цели разными путями.
Особенность духовного производства — идеальность продукта, реализуемость в самых разных материальных носителях. Потребление такого продукта есть фактически производство материальной системы, представляющей ту же идею, — это материальное производство. Потребление продукта этого производства — духовное производство, развитие идеи, обогащение ее опытом всевозможных реализаций.
Потребление субъектом продукта материального производства, ограничивает возможность потребления того же продукта другими субъектами (поскольку индивидуальные субъекты вообще различимы в контексте какой-то деятельности). Выход из положения состоит в предоставлении каждому аналогичного продукта — реализации той же идеи. Границы аналогии зависят от культурных установлений, от истории формирования субъекта. В частности, дефицит продуктов одного типа ведет к перестройке отношения к потреблению, к обращению иерархии идей.
Считается, что одна и та же идея — никак не ограничивает совместного пользования; но это возможно лишь при условии, что материальные ресурсы для ее различных реализаций имеются в изобилии. Например, если художественный образ требует воплощения только в каррарском мраморе — его реализация вообще невозможна, поскольку месторождения давно истощены. Аналогично, если проект требует соединения усилий многих миллиардов людей — придется подождать с его реализацией до прихода более экономных технологий. Тем не менее, рост возможности разделения ресурса по мере удаления от материальной основы — явление обычное, и самые абстрактные идеи теоретически могут разделяться вообще всеми; обратная сторона такой всеобщности — абстрактность самого разделения, поскольку невозможно понять, что же у нас есть, пока мы не приспособили это к живому делу.
* * *
Если мы милостиво разрешаем собеседнику иметь свое мнение, но каждый раз, когда его мнение не согласуется с нашим, даем ему по морде, — через некоторое время окажется, что мы с ним полные единомышленники, — при полной свободе мнений!
* * *
Слова, вырванные из контекста, означают вовсе не то, что автор имел в виду, — но они означают именно то, что должны означать.
* * *
Глобализация — другая сторона размежевания, всеобщего разделения труда: чем единичней единичность, тем шире границы общности. Поскольку же общее отделено от единичного (обособлено), между единичностями пропасть, непроходимые барьеры. Классовое общество абсолютизирует любые противоположности, и возможность превращения одного в другое представляет скачком, изменением качества. Снятие противоположности, наоборот, означает отсутствие необходимости превращаться в другое — и возможность просто быть этим другим, оставаясь собой. Это и есть свобода.
* * *
Разум требует не только интеллекта, но и чувств, и умения мечтать. Он не равнодушен, ему нужно не просто что-нибудь — а нечто вполне конкретное, — и ему важнее творить свои потребности, а не только потреблять.
* * *
Достойный по природе — по природе недостоин быть человеком.
* * *
Признание принципиального отличия разумного существа от животных равносильно утверждению о необходимости уничтожения цивилизации и строительства разумного, бесклассового общества.
* * *
По Гегелю, вещь в себе (сама по себе, an sich) становится вещью для других — а через это и вещью для себя. Для объективной логики этого достаточно.
Но в том-то и суть, что человек не только объективен — он еще и субъект, дух! Поэтому для других он будет не только вещью, но и духом. И точно так же, через общение с другими он замечает собственную духовность.
Дух, конечно же, не существует сам по себе — он всегда представлен движением вещей. Чтобы заметить духовность другого, придется посмотреть на вещи его глазами — поставить себя на его место, примерить на себя его деятельность, проникнуться его духом. Только после этого возможно обнаружить свою тождественность с другим — и одухотворенность собственного труда, как если бы видимого глазами другого. Мы приходим к себе через любовь.
Следовательно, исходную логику
|
вещь в себе ⇒ вещь для себя
| |
следует дополнить ее субъектными обращениями:
вещь в тебе ⇒ вещь для тебя
вещь во мне ⇒ вещь для меня
| |
Это серьезное расширение логики — и над этим предстоит поработать.
* * *
Результаты работы — отличаются от плодов труда.
* * *
Материя, конечно, задает духу жесткие рамки — но это не границы духа, а ограниченность способа духовного производства. Где поселится дух — трудно сказать. Одно и то же действие бывает формальным — или творческим. Разглядеть дух в продукте — дело не менее творческое. Строчки на бумаге — еще не стихи, их только предстоит оживить читательским неравнодушием. И это зачастую не зависит от намерений автора. Самую обычную гамму можно играть по нотам — а можно с выражением. Упражнения на гармонизацию или полифонию — могут для кого-то стать ключом к собственной духовности. Да, задания по латинскому стихосложению в старых гуманитарных школах редко рождали шедевры — но, может быть, просто некому было искать?
* * *
Неправда — вовсе не то же самое, что ложь. И сказать другому: ты не прав! — не то же, что: ты лжешь! Вопрос о соответствии истине тут не стоит — что есть истина? Как и во всякой деятельности, важнее усмотреть — для чего. Ложь корыстна: лгут ради достижения низкой цели. Неправда возможна и с благородными намерениями. Хорошо это или плохо — вопрос о другом: почему человек поступает именно так, что вынудило его покривить душой? Значит, что-то не так с обществом, и надо снова переделывать мир.
* * *
Когда у человека что-нибудь отнимают — он уже не совсем человек, а полуфабрикат, заготовка, каркас. Когда отнимают очень много — остается голая схема, абстракция.
* * *
Люди давно догадывались: не бывает красоты самой по себе. Прекрасно что-то и для кого-то. То есть, с одной стороны, особое качество объекта, как свойство или предрасположенность. Но еще важнее — характер взаимодействия с субъектом, способ быть для него. В древности это называли грацией. Вульгарная сторона — умение подать товар лицом.
Просвещенческая идея грации восходит к буквальному толкованию слова: божий дар, благодать. Любимый человек как икона, источник света. Любящий не допускает мысли, что источник грации — он сам, что прекрасное есть продукт совместной деятельности — вполне земного, а вовсе не божественного происхождения. Или иначе: человек превзошел богов.
Как водится, буржуазия все опошляет — и современные психологи толкуют об идеализации, иллюзиях и разбитых мечтах... В пределе, красоту секс-партнера измеряют количеством выпивки.
Но необходимости одухотворять природу никто не отменял. Умеете вы так повлиять на мир, чтобы он подарил вам свою духовность — вы разумное существо; нет такого умения — недочеловек, заготовка, тупая протоплазма. Разумеется, речь не только о красоте.
* * *
Когда человек приступает к деятельности, он исходит их имеющихся ресурсов и планирует работу так, чтобы в итоге все-таки получить нужный продукт. Могущество разума в том, что практически в любых обстоятельствах он умеет найти приемлемое решение — действовать по обстоятельствам, не отступая от разумности. Иногда приходится выражать себя в уродливых формах — но было бы глупо отказываться от разума на том основании, что для разумного действия нет подходящих условий, что общество не созрело — и время не пришло. Если не получается творить в благоприятствующем этому формате, мы включаем новую программу: уложиться в заданный формат; и это тоже творчество — а вовсе не отступление от идеала.
* * *
Не бывает человеческой природы.
* * *
Французские слова для того, что мы называем духом сами собой выстраиваются в замечательную триаду:
Передать это в других языках не получится — только с большой натяжкой, насилуя словарь. Общая идея: у разума две стороны — объективная и субъективная; поэтому разумным быть можно очень по-разному, в зависимости от соотношения рационального и чувственного, направленного на объект — или идущего изнутри. Это внутренне "расслоение" разума вполне соответствует внешнему, по Гегелю:
|
сознание — самосознание — разум
| |
Дух как вдохновение — обычен для просвещенческих философий; дух как воодушевление — открытие Дидро и романтиков. Но для разума важно и то, и другое — и только так дух делает себя продуктом деятельности.
По-русски можно было бы говорить о разуме как единстве ума и гения — но слова это настолько размыты в языке, что под такую схему возможно подставить вообще что угодно...
* * *
Производственные отношения — материальная основа духовности, но эта материальность сама по себе идеальна, поскольку речь о не о том, что есть само по себе, а о связи вещей. Возникает соблазн ограничиться производственным общением — и считать характер и поведение всего лишь следствием. Но точно так же, как совместная деятельность не сложится сама по себе, в силу чисто технологических требований, — взаимодействие личностей не только не вытекает из производства и быта, но и активно влияет на свою материю, одухотворяет ее. Когда людей сводит вместе внешняя сила — производство остается только возможностью духа, но не его действительностью. Это касается и духовного производства — поскольку его продукт не более чем абстракция субъекта, идея деятельности — безразличная к стремлениям и мечтам. Собственно деятельность начинается там, где идея соединяет один дух с другим.
* * *
Глупо судить о других по себе и только для себя. Мы можем не любить кого-то — это не значит, что он недостоин любви. Нас не устраивают дела и поступки — но они по-своему уместны и логичны в другом контексте. Странности окружающих не дают нам застаиваться в себе, вырождаться в центр индивидуалистической вселенной, забыть о разнообразии мира. Признавая других людьми — мы преодолеваем животность.
* * *
Разумное не ждет воздаяния. Оно никогда не ждет.
* * *
Человек всегда что-то делает. Например, он делает ошибки. Наши ошибки — такой же общественный продукт, как и все остальное, и мы просто обязаны их совершить: иначе в мире останется незавершенность, неполнота.
Классовый человек боится ошибиться — и предпочтет лишний раз не влезать в рискованное дело. Свободному человеку бояться нечего: никто не будет расценивать неудачу как вредительство, сторониться и упрекать. Все понимают, что жизнь сложна, и провалы неизбежны; когда не смог стать достойным любви — любимому достаточно знать, что любовь есть, и никаким нелепостям биографии этого не заслонить.
* * *
Сказка не ложь! — это просто выдумка. Человек сознательно говорит о том, чего не было, и не могло быть. Тем самым он освобождает себя от природной необходимости, готовится переделывать мир наяву. Однако фантазии далеко не всегда превращаются в мечты: иногда это лишь игра, условность, без конца воспроизводящая один и тот же навык, подобно движениям удивленного себе ребенка. Абстрактное искусство, абстрактная наука. Тупая педагогика, состарившаяся любовь.
* * *
Мы давно привыкли фотографироваться на документы — и даже представить себе не можем, как люди когда-то обходились грамотами без портрета. Или вообще ничего не могли предъявить. Но появилась фотография, по историческим меркам, совсем недавно — а массовой стала лишь после первой мировой. Поначалу, запечатлеться — стоило денег, и шли на съемку как на праздник, при всем параде. Чуть раньше нечто подобное происходило с портретной живописью: запечатлевали особ денежных — а все остальные если и попадали на холст, то лишь в качестве колоритной натуры, которую талант художника перерабатывал порой до полной неузнаваемости (хотя имена некоторых натурщиц до нас таки дошли). Так и получилось, что лица многих знаменитостей прошлого мы знаем лишь по чьим-то очень вольным зарисовкам (вовсе не обязательно следующим оригиналу), или посмертным портретам-фантазиям. Нет, конечно, всяческие цари, купцы, военные и церковные чины — косяком, в профиль и анфас. Но как выглядели Сафо, Абеляр, Франсуа Вийон? — бог весть... В идеологических целях тиражировали бюсты Платона и Аристотеля; но от Анаксагора и Евклида не осталось ничего — не говоря уже о заслуженных дамах, вроде Таис, Клеопатры или Гипатии; последнюю мы знаем лишь по вымышленному портрету к вымышленной биографии! Даже знаменитый Ронсар — не удостоен; опального маркиза де Сада рисовать тоже никто не рискнул — и это начало XIX века, почти на пороге фотографической эры!
Заметим, что даже сохранившиеся портреты вряд ли следует считать историческими документами: тысячи лет господствовало мнение, что художник вовсе не обязан добиваться портретного сходства — ему важнее отобразить стоящую за физиономией идею. Предположительно, клиенты вовсе не возражали против подобной идеализации (да и ранняя фотография немыслима без художественной ретуши — а чудеса фотошопа стали общеизвестной идиомой). Но когда за дело взялись силовики — нежностям конец: идентифицировать злоумышленников (коими потенциально являются все без исключения граждане) следует по точным и беспристрастным (нормализованным) изображениям. Закон жанра — жесткий формат, никаких художеств! Одновременно с этим возникают стандарты словесного портрета, антропометрия, отпечатки пальцев. Так мы потихоньку перетекаем в навороченную современность, где есть еще и образцы голоса, и сканы сетчатки, и анализ ДНК — и многое другое, о чем типовой обыватель, возможно, и не догадывается. Когда я плачу по счету за водопотребление — заботливые чиновники меня предупреждают, если мои расходы не соответствуют невесть кем предписанному мне профилю! — какие еще экономико-этологические "профили" в моем досье? Биография, послужной список, банковская история... В медицине это называется "объективными методами". Сегодня ни один врач без комплекта анализов — пальцем не пошевелит. А если я безнадежно субъективен? если я не желаю, чтобы меня осматривали и ощупывали, — а хочу, чтобы признали во мне разум, творческую свободу, духовность? Что мне трухлявое тело с его трухлявым жизнеописанием? Пусть про это забудут еще при жизни; моим мечтам никакие портреты не нужны! Какая мне разницы, чем одно изображение несходно с другим? Александра Македонского отличает от Венеры Милосской вовсе не форма мрамора, а характер их деяний. Которые вовсе не обязательно состоялись в биологическую бытность; например, вышеупомянутая Венера абсолютно ничем при жизни себя не зарекомендовала (и ее имени история не хранит) — зато в наши дни волшебство испытали на себе очень и очень многие. Вот так же и мы: бегаем, суетимся, чего-то добиваемся... Кому до этого дело — кроме судебного исполнителя и налоговой инспекции? Не в том наша суть, другое у нас в этом мире предназначение — которое никакими словами толком не передать.
В эпоху глобализации и вседовлеющей виртуальности пора бы оставить дурную привычку что-либо из себя изображать. Образы — лишь игра, переодевание, маскарад. Странный парадокс: чем больше у человека возможностей играть разные роли — тем старательнее ему пытаются навязать какую-то одну. Полицейское помешательство на биометрии — не от большого ума; оно от страха. Если одного человека не отделить от другого непроницаемыми (классовыми) барьерами — как смогут одни ездить на шее у других? Эдак всем придется самостоятельно шевелить мозгами и конечностями — и выстраивать судьбу не по наследству, не по хищным замашкам, а по реальным заслугам. Чего господа никак не могут допустить. Нет у них за душонкой ничего стоящего — и банковской цифирью это не компенсировать. Именно поэтому хозяева вынуждены допускать в свое неорганическое тело наемных слуг (или бесправных рабов) — самим в своем хозяйстве не управиться. Но стоит рабу причаститься к телесной распределенности — он уже не совсем раб: он пропитывает собой хозяев, делает их существование своим — и тем самым обрекает на полную ненужность, безжизненность. Правящая верхушка разлагается изнутри, ей нечего предъявить человечеству, кроме "объективных" свидетельств якобы избранности. Но объективность — удел вещей; разумное существо использует вещи для производства других вещей — но не по шаблону, следуя установленному порядку, а свободно заменяя одни вещи другими, произвольно меняя тела. Вот это умение мы и сообщаем другим по ходу любой деятельности, и пока мы в состоянии кого-то вдохновить — мы есть.
* * *
Мы размышляем только о том, чего еще нет. Мы граним образ, выводим формулы, строим схемы... Разновидности мечты. Когда сбылось — будем мечтать о другом.
* * *
Начало и конец пути — а между ними что-то очень извилистое. Можно ползти по этой дикости, вписываться в любые повороты. Кто слишком стремительный — вылетает на обочину, и приходится тратить силы не поиск продолжения, не возвращение в колею. В итоге — и те, и другие приходят одинаково. Но по-разному. Для одних достижение глубоко прочувствовано, пережито, — другие нахватались сторонних идей, видят результат в широком контексте. Человечеству нужно все — и нужны все.
* * *
Орудие труда — для творчества, а не для орудования.
* * *
Универсальность субъекта означает, что любые материальные образования будут нести на себе печать духа — по крайней мере, они изначально постигаемы — а значит, и для чего-то предназначены, и только ждут своего часа, включения в деятельность. Материя движется сама по себе — но в ней нет ничего, что не могло бы стать продуктом деятельности. Человека не было на Земле миллиард лет назад — но он там неявно присутствовал как возможность и неизбежность возникновения (или обнаружения, воплощения) разума.
Обратно, нет ничего в разуме, что не восходило бы к тому или иному воплощению, не следовало бы за движением материи. Отсюда соблазн поставить разум на одну доску с неживой и живой природой, опошлить его, "вывести" из неразумности, — или наоборот: вывести вещи и организмы из абстрактных идей, объявить природу лишь оболочкой духа, выражением его строения, порождением безудержного произвола.
Стремление во что бы то ни стало подчинить одно другому, делить мир на "первичное" и "вторичное" — суть классовой логики, согласно которой и в обществе одним дана мистическая власть над другими.
Но разные стороны одного и того же — не одно и то же. Мир как природа и тот же самый мир как дух — вовсе не тождество природы и духа: их различие предстоит снять в деятельности, путем превращения как природы, так и преобразующего ее субъекта в продукт — в котором соединено природное и духовное, возможность действия и намерение.
Поскольку мы говорим о себе, о деятельности, — мы различаем объект и субъект, разделяем мир на природу и дух. Однако это вовсе единственная возможность — и тот же мир может соединять другие (взаимно дополнительные) стороны; для нас, поскольку мы судим с позиций нашей деятельности, это выглядит как строение объекта или строение субъекта, их внутренняя сложность. Но эти иерархии всегда связаны одна с другой, взаимообусловлены. И потому оказывается, что субъект (по видимости) движется по природным законам, а природа развивается (как будто бы) по воле духа. Суть же в том, что взятый в иных различениях мир обнаруживает различие объекта и субъекта как внутреннее строение чего-то иного, не имеющего прямого отношения к деятельности.
* * *
Формальность — не цель, а средство. Когда надо что-то уяснить, можно манипулировать абстракциями. Как только идея выросла — от этих подпорок можно отказаться и дальше мыслить (и жить) не по правилам, а по идее. Теоремы превращаются в аксиомы — но мы помним, что ничто не навсегда, и всегда готовы развернуть себя в неожиданном направлении.
* * *
Всевозможные теоретики пытаются убедить нас в правильности изобретенных ими абстракций — разумеется, не из любви к истине, а потому что кому-то выгодно, чтобы мы поступали именно так (оставляя действия законодателей на их собственное усмотрение). Спрашивается: почему не иначе? Почему надо обязательно заводить ваши порядки, а не какие-то еще? В принципе, хороший ответ: а почему бы и нет? Для определенности. Но это хорошо только там, где есть альтернативы, когда можно пробовать варианты и подбирать подходящий для себя. Если же всех под одну гребенку и в одну (прокрустову) постель — это уже не забава, и не мешало бы привести разумные доводы. Хотя вряд ли огульная стандартизация может быть действительно разумной — только временно, в исторически ограниченных масштабах.
* * *
Совершенно не важно, как что называется. Бог, самосущая идея, способность ощущения... Можно сколько угодно объявлять все это мистическим и потусторонним — но поскольку оно не является продуктом человеческой деятельности — это всего лишь природа, то есть мир, противопоставленный субъекту деятельности как объект. Другими словами — то, что человеку предстоит использовать в своей деятельности. Как только мы научились к чему-либо это приложить — мистические абстракции становятся продуктом, элементом культуры, предметом потребления. Мы производим не богов вообще — а тех, которые нужны нам для достижения определенных жизненных целей. Идеи нужны не сами по себе — они позволяют упорядочить труд, соединить усилия многих. Точно так же, о материи мы говорим лишь в том смысле, что нам всегда есть чем заняться — из чего строить свой мир.
* * *
Журналисты с восторгом ухватились за формулу Стивена Хокинга: интеллект — это способность быстро приспосабливаться к изменениям. Пожалуй, можно с ним в этом согласиться: интеллект — из животного царства, и у человека это лишь одна из сторон телесности. Остается только вспомнить, что мы таки разумные существа. А разум ни к чему не приспосабливается: наоборот, он приспосабливает к себе любые изменения, не дает ничему изменяться без нашего на то согласия!
* * *
Отличие материальных отношений от духовных подобно различию опосредованных и косвенных связей. Два субъекта могут обмениваться продуктами деятельности:
S → P → S'
Эта опосредованная связь в классовом обществе приобретает форму обмена. Такой обмен продуктов выражает строение деятельности — это производственная кооперация: продукт одного становится условием (объектом) деятельности другого. Снятие опосредования ведет к идеальному связыванию субъектов
S ⇒ S'
Такие (производственные) отношения субъектов направлены: у каждого партнера в них своя роль.
На более высоком уровне (в рамках иной деятельности) обмен продуктами снимается иначе, и деятельность выглядит как совместное производство или совместное потребление:
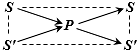
Звенья S → P и S' → P (а также их обращения) здесь равноценны — это разные выражения одного и того же. Так между субъектами S и S' возникает косвенная (духовная) связь — их единство в деятельности. Тем самым также образуется духовное отношение каждого из субъектов к себе — основа личностного роста.
Легко заметить, что одно не бывает без другого: общественное производство ведет к духовному единству — а духовные связи всегда представлены производственными. Опосредования и косвенные связи по-разному выглядят на разных уровнях деятельности: они переходят друг в друга при обращении иерархии.
* * *
Когда нет вариантов — есть разные варианты... Например, может быть разумным следование необходимости; да, это внешняя сила, подчиняться которой разуму не подобает, — но поскольку поведение намеренно, обстоятельства лишь подталкивают — но не определяют. Потому что есть и другой выбор. Какой? Их много. Иногда нельзя даже на поверхности примириться с навязанным — и разумнее сделать паузу, прекратить всякую деятельность — не существовать. Крайности тоже должны быть уместны — но разум свободен, и он не исключает ничего.
* * *
Как только человека поместили в ряду животных — общественный прогресс останавливается. Невозможно критиковать то, что от человека не зависит. И тогда, вместо уничтожения морали, права и религии как форм существования классовой экономики — недовольных уводят на поиски "естественной морали", "естественного права", "естественной религии". Но в природе нет свободы — поэтому "естественность" не только ничего не меняет, но и усугубляет бедствия страдающих масс. Бить морду просто так или "естественно" — это одинаково больно; "незыблемое" и "априорное" — лишь придают унижению оттенок безысходности. Поэтому эмпирионатуралистические учения даже не претендуют на защиту интересов угнетенных — они обращены к элите, их задача укрепить единство хозяев против разобщенных рабов.
* * *
Мы много говорим о свободе. Иначе и быть не может — ибо жить нам приходится в несвободном, классовом обществе. Когда свобода станет обычным состояние общественного бытия — у философии будут другие темы. Точно так же, где все любят и любимы — там незачем размышлять о любви.
* * *
В отношении к материалу всякой вещи, ее форма — идеальна: это заведомо не материал, а способ его организации. Когда мы говорим о появлении разумных существ, мы имеем в виду, что какие-то вещи (движущиеся по природным законам) становятся носителем разума, исторически конкретной формой его существования; но это означает, что в качестве формы разума природа идеальна — то есть, в ней уже предполагается дух, и называть природу ("объективную реальность") материей — это вульгарный материализм.
* * *
Эстетика, логика, этика — вспомогательные средства, подготовка деятельности. К ней можно подходить по-разному — и потому разные люди могут трудиться сообща, несмотря на противоположности. Любая схема — строительные леса; после завершения строительства они ни к чему. Важно, что мы решили — а не как подошли к решению.
Однако человек — не просто умная зверушка, которая придумывает хитрые способы достижения цели — но тут же забывает о них, когда цель достигнута. Люди обращают внимание на собственные поступки — и делают каждый из них логической схемой, эстетическим взглядом или этическим принципом. Строитель разбирает леса — и складывает про запас, чтобы при случае собрать заново, по-другому, по форме будущего творения. Это называется рефлексией, духовным производством. И этим можно заниматься столь же осознанно, как и удовлетворением телесных потребностей, — и для человека граница между тем и другим становится зыбкой и условной. Для изготовления орудий труда тоже нужны орудия. Использование орудий — тоже творчество.
Но не бывает орудия ради орудия. Инструмент не сам по себе — он задуман как инструмент, он предполагает определенные способы использования. Наши орудия — это мы сами. Можно найти иные применения уже готовым вещам; но приспособить вещь к чему-то — это тоже производство, поиск себя. Изготовление орудий труда заставляет применять их — и становится планом, направлением дальнейшего развития. Так человек порождает свое будущее. Каждое орудие — мечта о будущем. А значит — и память о прошлом.
Когда орудия труда становятся универсальными — и предназначены также для изготовления самих себя, — они пропитывают духом, приобретают черты субъекта деятельности. Но, в конце концов, и человек — лишь орудие мыслящей вселенной.
* * *
Можно ли вытянуть себя из болота за уши? Можно. Для этого надо привязать уши к прочной веревке, пропущенной на твердом берегу через блок, — и тянуть за свободный конец.
Точно так же, мы вытягиваем себя в будущее, зацепившись за то, что ему уже принадлежит, — и стряхивая сегодняшнюю грязь в трясину прошлого.
В рефлексии роль опоры играют идеи — образы того, что могло бы стать, если хорошенько постараться. Мы все пропитаны нездоровыми миазмами — и не можем отделить новое от старого, оставаясь внутри себя. Тогда мы сравниваем себя с другими — не с измысленными нами образами, а с реальными людьми, с кем можно по-человечески общаться. Там, где мы слишком похожи, — скорее всего, груз животности. Где мы совсем разные — след неживой природы. Самое интересное — чего у нас нет, но чем мы могли бы стать. За это уже можно ухватиться, и потихоньку подтягиваться. Не забывая, конечно, что мы все еще в болоте, и выпячивать достижения рановато. Обнаруживая неразумность в других, мы сразу же натыкаемся на такую же в себе — и подтягиваем канат, чтобы оставить дрянь позади. Иногда опора подводит: идея с гнильцой... Ну что ж, попробуем следующую — а это само по себе недурная идея!
* * *
Превращение людей в живые существа и неживые вещи в сказках и мифах — пережиток первобытного синкретизма, когда человек уже не вещь по своему положению во вселенной — но еще не успел это осознать. Современные эмпирионатуралисты, пытающиеся затащить человека назад в природу, — рудименты и атавизмы первобытности, любители анекдотов с бородой. Синкретическое сознание — гораздо глубже и продуктивнее; например, мы видим в нем проблеск марксовой идеи о неорганических телах — и предвестие освобождения человека от всякой органики, за исключением продуктов человеческой деятельности намеренно организованных по форме живого (но сохраняющих при этом и собственно культурную определенность). Человек не превращается в вещи — он консервирует в них свою историю, и это позволяет свободно замышлять будущее. Для академической науки — есть только одна история. Разумное существо развивается сразу во всех направлениях — в суперпозиции историй, с веером перспектив.
* * *
Буржуазная философия трубит о свободе воли — подразумевая под этим лишь односторонний характер права: закон только для бедных — богатые могут поступать как им заблагорассудится. Точно так же, наука устанавливает связи в природе — и освобождает от них человека, позволяет ему заняться поиском того, что этой необходимости не подчиняется. Точно так же художник добивается совершенства — чтобы освободиться от навязчивых форм, подняться выше. Такие частичные свободы — типичная черта классового общества. Когда человека сводят к профессии (или иной единичной определенности) — его свобода выглядит как свобода профессии, абстрактной категории, — а человек прикован к ней, и заведомо не свободен.
Не может быть свободной абстракция. Свободен человек. Целиком, а не какими-то отдельными (отчужденными от целого) сторонами. Разговоры о свободе воли прикрывают неприглядность классового бытия: воля человека — уже не его воля, она свободна, она представляет некоторую внешнюю силу... Нетрудно догадаться, что это за сила. Свободным человек станет только в обществе без классов, где никакое отчуждение разумности от разума — в принципе невозможно.
* * *
Для буржуа — счастье остается чисто природной категорией: оно есть или нет само по себе. Предел мечтаний — богатство; оно так и называется: состояние. Богатство не сделать никакими усилиями; его источник — рыночная удача (то есть, стихий, игра случая). Можно долго копить по грошику — и все потерять под очередным кризисом; повезло, если успел округлить капитал (или занять хорошее место, или хотя бы обеспечить пути отхода) до того.
Человек разумный — счастлив, когда удается свободно творить, — независимо от результата. Его счастье в том, что можно быть всем — но не надо оставаться ни в чем. Эта универсальность в извращенной форме обнаруживается в абстрактной всеобщности капитала, в его способности превращаться во все: все купить и все мерить по себе.
* * *
Жизнь — одушевление тел.
Деятельность — выход за рамки плоти.
Душа не может покинуть тело.
Дух свободен — и может воплощаться в чем угодно.
* * *
С точки зрения физики — нет никаких атомов и молекул, а есть взаимодействие квантованных полей. С точки зрения химии — только взаимодействие молекул, и ничего, что можно было бы назвать жизнью. Для живого — все вращается вокруг физиологии организма и видового поведения (включая психологию); нет здесь места разуму. Движение на каждом уровне иерархии подчинено законам этого уровня, а другие уровни (различие верха и низа в иерархии относительно) лишь задают связи, граничные условия, определяют отличие одних вещей от других. Каждый из уровней характеризует иерархию в целом с одной из сторон, как способ бытия вселенной. Там, где уместно выделение уровней существования, жизни и разума, неживое предстает как всеобщая связность, жизнь — как связанность одного с другим, сознательная деятельность — как связывание, восстановление единства мира.
* * *
Если настраивать себя лишь на постижение мира — мир признают высшим совершенством; тогда, независимо от намерений, приходится признать и столь же совершенного творца — ибо совершенство есть отношение к намерению, а не свойство вещи самой по себе. Восторги по поводу природных красот, гармонии мира, априорных законов или разумных (читай: божественных) оснований всякого бытия — лишь пропаганда начальственных идей, призыв покорно исполнять приказ, полагаясь на вышестоящую мудрость. В частности, отсылки к народной мудрости — против мудрости, стремления жить своим умом и своими чувствами.
Человек не постигает гармонию мира — он ее создает. Без нас — только хаос; упорядочивает хаос наше сознание, решимость считать порядком именно это, а не другое. Перенести тот же принцип на производство самих себя — следующий шаг к разумности. Собственно разум есть сознание рукотворности любого порядка и своего призвания устанавливать и менять любые порядки, не считаясь с привычками господ.
* * *
В Капитале процесс материального производства (экономика) Маркс рассматривает как производство товаров (предметов обмена) — как это характерно для классового общества. При этом предполагается, что доклассовое производство было непосредственно ориентировано на потребление — и лишь возможность присвоения продукта частными лицами ломает эту установку, заставляет обменивать излишек одного на излишек другого. Здесь много сложностей; например сама идея частного лица связана с возможностью присвоения — и логический круг курицы и яйца приходится как-то преодолевать, выходя за рамки классической логики. Но в любом случае общая направленность развития налицо — поэтому общество будущего должно в какой-то форме восстановить примат потребления.
В субъектном плане, воспроизводство субъекта материального производства в бесклассовом обществе есть прежде всего производство потребностей, — тогда как при капитализме на первом плане воспроизводство способностей — так что даже потребность выступает обращенным образом, как покупательная способность. В контексте товарного производства субъект воспроизводится как рабочая сила — или как потребитель; в этом (сугубо экономическом) качестве он становится субъектом прежде всего производственных отношений (правовых, моральных и т. д.) — и все остальные отношения между людьми берут только с этой, вещной стороны. При этом мы всегда подходим к субъекту извне — и видим в нем вовсе не то, что делает его субъектом, отличает от природного существа (независимо от "номера" природы). Конечно, на словах, вроде бы, признают, что существует еще и духовная сторона — но заявляют, что она вторична по отношению к материальным связям. Как только заходит речь о производстве (культурных) потребностей — одного указания на материальной основу мало: надо еще и осознать внутреннюю необходимость такого движения, вывести его из самого субъекта. Только так возможно говорить о духовном производстве — то есть, о воспроизводстве субъективности как таковой.
К сожалению, сколько-нибудь внятных указаний от экономического трактата ждать не приходится; единственный разумный вывод — неизбежность отхода от диктата экономики в бесклассовом обществе будущего. То есть, главным мотивом станет не производство организмов и вещей, а производство идей — универсальных отношений между вещами и телами, которые могут по-разному представляться на практике; тем самым уже не материя определяет сознание — а наоборот, наш дух заставляет материю принимать нужные нам формы, чтобы обеспечить дальнейшее развитие духа. Собственно, этим мы (по словам Маркса) и отличаемся от пчел, муравьев и прочей живности.
Что охватывается категорией "духовное воспроизводство"? В учебниках тупо перечисляют "формы общественного сознания" — ничего кроме голой эмпирии за эти не стоит. Без минимальнейших попыток систематизации. Большая часть этого (право, религия и т. п.) — принадлежит сфере материального производства — это лишь формы производственных отношений, идеальная сторона экономики. Даже традиционная психолого социологическая абстракция личности — относится, скорее, к субстрату духовности, к ее воплощениям: любая статистика — это неживая природа, а психика — из биологии. Область тел (включая неорганические).
Но где та элементарная клеточка, с которой надо начинать? Какие противоречия анализировать? Следуя методу Маркса.
Есть подозрение, что говорить о духе надо как-то иначе. Потому что его суть — единство, а не различия; в духе вообще нет противоречий. Впрочем, и экономика оказывается противоречивой лишь в классовом обществе, и метод Маркса не обязательно окажется уместным при исследовании бесклассовых обществ. А может быть, само различение материального и духовного окажется излишним — и на первый план выйдет нечто вообще невообразимое.
В любом случае, самого общего представления о субъекте деятельности недостаточно: это, конечно, нужно и правильно — но для практики почти ничего не дает, не поддается осмыслению. Вопрос — в каком качестве мы воспроизводим субъекта, в каком отношении. От этого зависит, что станет центральной категорией, вершиной иерархии.
Например, воспроизводство субъекта можно понимать как товарное производство — создание работника, способности возобновления деятельности, рабочей силы. Это имеет отношения к духовности — субъективности как таковой; но в определенных условиях духовность невозможно без этого.
Что еще имеется?
Деятельность? Да, субъект тождествен деятельности — но он лишь представляет ее. Скорее, нас интересует воспроизводство способов деятельности — но как соединить это с универсальностью, основной характеристикой субъекта?
Культура — слишком широко. Это единство экономики и духа — но не вообще, а как исторический этап, или уровень. Культура — всеобщий продукт; в качестве второго отрицания, она ближе к объекту.
Личность — слишком узко, привязываемся к одной из сторон субъекта, к внешности; но если дух становится продуктом, в нем есть и объектная сторона, и надо ее воспроизводить вместе с субъектностью.
Сознание — еще уже; уход внутрь субъекта, на один из его уровней (вместе с самосознанием и разумом); нет продуктивности.
Так что же мы духовно производим?!!
Вероятно, все вместе — но особым образом, духовно.
Надо думать, присматриваться. И главное — не застаиваться в чем-то одном. Всякое суждение — исторически ограниченно. Одна линия из многих. А мы хотим сразу всего!
* * *
Цикл духовного производства S → O → S представляет развитие субъекта через идею. Но тогда материальное производство O → S → O допустимо развернуть в иерархию O → (S → I → S) → O, и снятие опосредований дает другое обращение той же иерархии: O → I → O, преобразование мира через идею. Отсюда столь обычная для старой философии склонность представлять субъекта как идею и патетически провозглашать, что идеи движут миром. Но субъект — не только идея; он еще и руками работать умеет — в отличие от некоторых философов.
* * *
Ученые обвиняют философов в расплывчатости понятий — и тем самым обнаруживают туман у себя в голове. Это в науке — понятия. Философии нужны категории — каждая из которых представляет собой единство очень многих понятий. Этим и занимается философия — установлением единства.
Как бы это попонятнее... Возьмите аксиоматическую теорию в математике. Образец строгости. Все однозначно? Как бы не так! Одно и то же можно, оказывается выводить из разных аксиом — и получать эквивалентные аксиоматические теории. Доказывают эквивалентность достаточно прямолинейно: аксиомы одной теории выводят из аксиом другой, и наоборот. Но это если теорий немного. А эквивалентность как таковая — непонятно что. Утверждение, что все теоремы одной теории выводимы в другой, — подразумевает, что мы умеем вывести все теоремы и завершить построение теории; а это, извините, вовсе не факт. Класс всех теорем аксиоматической теории даже в простых случаях не определим в терминах этой теории — и надо выходить в какое-то другое "пространство", где теория существует как целое, независимо от возможных формализаций. То, что внутри теории — это понятия. Класс допустимых аксиоматических формулировок — вроде бы, определяет целостность в некотором узком смысле; но построение классов в математике операция некорректная, ибо при этом (явно или неявно) используются метатеоретические соображения — с очень сильными допущениями, которые, если честно, сводятся к одному: сделаем так, чтобы все получилось.
Но теорию вовсе не обязательно представлять аксиоматической системой! Например, прямолинейное "перечисление" все истинных положений — без всякого вывода — очевидно, задает некоторый класс, который может быть несколько шире, если какие-то утверждения в теории не выводимы. Есть стохастические формулировки теории, опирающиеся на возможность для любого единичного утверждения установить его истинность (не обязательно путем вывода — например, при помощи квантовой логики). И так далее. Более того, в развитии математических теорий ведущую роль играют вовсе не системы вывода, а методы определения: в уже существующую теорию определение вводит новый объект — и далее над уже известным надстраивается огромный пласт всего, что относится к этому понятию (хотя бы и формально определимому), — так что облик теории может измениться до неузнаваемости. Таких новшеств может быть сколько угодно — так что математике всегда есть куда развиваться. Тем не менее, у нас все равно есть идея теории как таковой, которую мы можем развивать в разных понятиях. Такое предельно общее представление — это уже не понятие, а категория; когда математики пытаются говорить о теории категорий — они сводят общую идею к одному из возможных понятий, а категориями как таковыми наука заниматься не может — и не должна. Мы можем лишь проиллюстрировать категорию примерами из жизни, какими-нибудь картинками, — или аксиоматическими теориями.
Переходя от математики к естествознанию, мы сталкиваемся с еще большими трудностями. Представления о предмете науки чаще всего складываются по мере ее развертывания — в результате чего наука может распадаться на относительно самостоятельные ветви (по мере "уточнения" понятий); в каждый данный момент мы совершенно без понятия, насколько все это здание близко к завершенности — и можно ли вообще его завершить. Упрекать философов в неопределенности — не видеть бревна в собственном глазу.
А философии вовсе не нужна академическая "строгость"! Мы как раз и начинаем с того, что обнаруживаем неуместность любых правил вне контекста: никакие принципы не работают везде и всегда — и надо честно разбираться в конкретной ситуации. Формально определять заведомо неформальное — это дурной стиль.
Разумеется, в философии есть свой формализм (категориальные схемы) — но работает это иначе, не так, как в научных теориях. Но, как и в науке, мы стараемся дать как можно больше иллюстраций нашим категориям, показывать одно и то же то одним боком, то другим, — иногда сталкивая внешне противоречивые проявления; это вовсе не произвол, это суть дела! И если кому-то покажется, что иллюстраций слишком много — можем лишь сослаться на бесконечность мира, которую никакими объемами не исчерпать. Делаем что умеем — как умеем. Придут другие, посмотрят, — и смогут больше.
* * *
Материальное производство — от природных нужд. В рефлексии этого нет — и нужен духовный стимул. Поэтому писателям так нужны музы. Поэтому ученые не могут обойтись без толпы профанов.
* * *
Немножко медитативности — не повредит. Но если для чего-то требуется полная концентрация и самоотдача — лучше этим не заниматься: это противно разуму.
* * *
Когда мы говорим, что дух преобразует природу — речь вовсе не о мистической способности абстракций придавать форму материи. Такое понимание — от классового мышления, от привычки противопоставлять одно другому. Если дух — не природа, это никоим образом не означает, что он существует сам по себе, отдельно от природы, и сопоставлен с ней внешним образом. Напротив, дух — это и есть движение материи, один из его уровней. Но и обратное верно: материя не косная масса, обреченная на тупой круговорот случайностей, — нет, материя может быть и воплощением духа, представлять его природным образом. Материя и рефлексия — две стороны одного и того же, единственного и единого мира. Одно не бывает без другого — но не просто складывается вместе, а становится другим, и возвращается к себе через другое. Поэтому возникновения жизни и разума — природная неизбежность, а разум универсален и окультуривает природу целиком.
Но каким образом дух (нечто идеальное) приводит в движение материальные вещи? Очевидно, за счет использования других вещей в качестве орудий труда. Существование условий такого действия одних тел на другие (орудийность) — означает существование способности и намерения такого действия, его идею. Таким образом идея порождает новую орудийную ситуацию — и новые идеи. Тем самым мир движется согласованным образом на разных уровнях: и как движение вещей — и как движение духа. Одно не сводится к другому — но перетекает одно в другое, и вещи становятся объектами, а дух субъектом деятельности, — а в итоге и то, и другое оказывается ее продуктом.
* * *
Всякое орудие имеет две стороны: рабочую часть (способ воздействия на объект) — и средства управления (способ влияния субъекта). Разумеется, не всегда это столь же просто, как лезвие и ручка ножа; иной раз бывает трудно определить, что для чего, — но различие все-таки есть. Развитие орудий труда связано, таким образом, как с повышением их эффективности — так и с удобством пользования. Классовое общество извращает этот процесс: орудие рассматривают не как полезную вещь, а как товар, — и его эффективность и удобство не столь важны для рынка, ориентированного на стоимость (характер производства) и цену (характер сбыта); капитал интересуется только прибылью — и повышение "уровня жизни" зачастую связано с ухудшением качества потребления и массовым подорожанием.
Духовное производство (рефлексия) также использует специально изготовленные орудия труда. Эффективность и удобство также делают одни орудия предпочтительными по сравнению с другими. Но здесь есть характерная особенность: в рефлексии нам важно не только то, что делают, но и как это делают; поэтому даже заведомо неэффективные и неудобные орудия представляют некий образ действия, который важен для культуры сам по себе — как одна из возможностей (а определяющее свойство разума — универсальность, стремление охватить все). Более того, именно неэффективность делает иногда орудие производства орудием рефлексии, знаком чего-то другого, подчеркивает заведомую "метафоричность". Нарисованные фрукты нельзя есть — но они не для этого нарисованы. Слово ничего не значит само по себе — но язык опосредует деятельность. Рабочая часть и пользовательский интерфейс в данном случае почти совпадают: творец опирается на культурно закрепленные функции знаков, чтобы вызвать у адресата столь же культурный отклик. Однако неизбежное различие в условиях творчества и восприятия (тем более при передаче духовного продукта из одной культуры в другую, от одной эпохи другой) отделяет пользование орудием от его действия — возвращает к единству противоположностей.
* * *
Свобода — это возможность быть собой. Счастье — возможность быть другими, чувствовать себя неотъемлемой частью целого.
* * *
Экономические отношения между людьми подразделяют на базисные (производственные) и надстроечные — якобы, все остальные. При этом в производственных отношениях (подобно природе) есть прямые связи людей в процессе производства (или потребления) как отражение связи вещей — и есть отношения в коллективах, выделяющие часть прямых связей как жизненно важные. Так различие неживой природы и жизни воспроизводится в формах общественного уровня (предполагая другое, неприродное содержание). Тогда "надстройка", вроде бы, соответствует сознательному регулированию производства, разнообразию субъекта, его универсальности.
Однако присмотримся: что под этим подразумевают на практике? Оказывается, надстройка охватывает не все вообще отношения между людьми, а только те из них, которые обслуживают производство, опосредуют производство и потребление. Другими словами, надстройка в самом общем случае есть лишь форма производства, понимаемого как материальная сторона деятельности. Единство материала и формы — содержательная характеристика экономического уклада, и она никак не вытекает из материала и формы как таковых. Здесь важно понять, зачем все это, как это способствует духовному росту — то есть, по сути, определить направленность истории.
Заметим, что надстроечные отношения всегда формальны (то есть, предполагают исторически определенные, относительно устойчивые типы поведения) — но не обязательно формализованы (превращены в общественные институты). Так, общественная психология (менталитет) и мораль — не требуют (а иногда и не допускают) документирования, что затрудняет этнографические и социологические описания, делает их артефактами, осмыслением задним числом, проекцией одной культуры на другую.
* * *
Промыватели мозгов всех времен и народов работают одинаково: несколько типовых приемов — и человека превратили в послушного болванчика... Суть метода — игра на неразумности, неспособности к рефлексии (которую те же инстанции насаждают с системе образования, воспитывая стойкое отвращение к рефлексии как таковой, привычку тупо реагировать, подражать, следовать стереотипам). В частности, обывателю внушают, что логика — это игрушка для яйцеголовых, что нормальному человеку она не нужна, и даже вредна. Подготовленная таким образом публика не интересуется разумными доводами — ей не нужна ясность, а нужна увлекательность, блескучая шелуха. И тут самое время пустить вход якобы старинные (но чаще изобретенные по поводу) притчи — поданные как синоним мудрости. Как клевета невозможна без фактов, так и обман делает истину своим орудием: всякая сказочка содержит разные намеки — однако наверх вытаскивают самое гнусное, способствующее оглуплению масс. Вот, например:
|
Два монаха шли через лес и встретили женщину, которая не могла перейти реку. Один из монахов поднял ее и перенес на другую сторону, хотя по правилам монахи не должны прикасаться к женщинам. Второй монах был потрясен и долго молчал, но через несколько часов не выдержал и спросил: "Как ты мог это сделать? Мы же обязаны следовать правилам!" На что первый монах ответил: "Я оставил ее на берегу реки. А ты все еще несешь ее с собой".
| |
Отсюда делают вывод, что не следует слишком серьезно относиться к любым принципам — и такие вещи как самокритика и совесть человеку ни к чему: они лишь осложняют жизнь, мешают наслаждаться вечным блаженством. Закон побасенок под фольклор: умный посрамил дурака. Но если второй столь же умен — рассказ можно было бы продолжить:
|
"Я вовсе не ее несу с собой", — возразил второй монах, — "я несу часть твоего греха. Ты взвалил на меня эту ношу. Но мой вопрос был о другом: почему ты не считаешь это грехом? Изволь отвечать по существу!"
| |
А это уже совсем другой разговор! И другая мораль. Но допустим, что и здесь нашла коса на камень:
|
Первый смутился — но ответил решительно: "Мы можем удалиться от мира — но мир не удалится от нас. Не я прикоснулся к женщине — она сделала меня своим орудием. Не я нарушил обет — мир сделал невозможным его соблюдение. И моя совесть чиста".
| |
Однако стреляного воробья не проведешь!
|
"Нет", — отозвался второй монах. — "Ты лишь перекладываешь на мир ответственность — а свою совесть ты переложил на меня. Никто не спорит: женщине надо было помочь. Но мысли мои не о ней, а о тебе: почему ты не нашел другого способа, сообразного твоему пути? Для этого тебе дан разум — и в этом я мог бы тебе помочь".
| |
Чувствуете разницу? Это уже не вопрос о блаженности бытия — здесь размышление о месте человека во вселенной — и о его способности оставаться собой в самых неподходящих обстоятельствах! Но мы можем вообразить себе и такую концовку:
|
"Возможно, ты прав", — сказал первый после короткой паузы. — "Но за свои ошибки я отвечаю сам. Я смогу это пережить — и стать выше. Почему тебе нельзя было поступить так же? Не подобает мудрому требовать мудрости от других — он обязан вырастить ее в себе, не задавая лишних вопросов".
И они пошли дальше молча — но вместе, одним путем.
| |
Вот такая получилась история... Не пошлое морализаторство, а повод задуматься, что-то решить для себя. Определиться с жизненной позицией. Быть вместе с людьми — и не презирать никого.
* * *
Не бывает цитат. В другом контексте — слова уже не те. Цитата — откровенный плагиат: мы используем чьи-то продукты для своих нужд, честно признаваясь, откуда мы это взяли, — но говорим сами и о своем. Припутывать к словам якобы автора (который, ведь, тоже у кого-то позаимствовал!) — все равно что на молекулах воды прописывать ссылку на реакции, в которой каждая из них образовалась. Вероятно, иногда и это важно; но большей частью мы просто выпьем — и забудем, и незачем заморачиваться.
* * *
Универсальная схема деятельности
|
объект → субъект → продукт
| |
в отношении к воспроизводству субъекта допускает (как и любая схема) разные интерпретации. Как обычно, интерпретация сопоставляют одну схему с другой — и формальные параллели требуется наполнить практическим содержанием.
Главное — это сознательное производство человека, как любого другого продукта. Не стихийное становление, не природная эволюция, а намерение — и его осуществление.
Как подлежащее преобразованию — человек есть объект, часть природы. И в этом своем качестве — он лишь носитель субъективности, одна из возможных материализаций.
Чтобы отличить этот объект от всех прочих, мы должны указать его определяющее свойство. Это свойство — субъектность, способность осуществлять универсальное опосредование, связь любых сторон действительности с любыми другими. Но субъектность здесь взята как внешнее отношение — между человеком и миром.
Поскольку человек сам воспроизводит себя, он представляет собой также продукт своей деятельности — и потому в нем сочетаются объектная и субъектная стороны: это и природная вещь — и выражение способа производства. Это качество также допустимо трактовать как соотношение носителя и свойств — однако в данном случае речь уже о внутренних сторонах человека — его телесности и духовности, — которые на каком-то уровне оказываются относительно независимыми, и можно говорить о материальном и духовном производстве "по отдельности", как о сторонах деятельности в целом.
Альтернативная интерпретация получается, если исходить не из качества объекта (как единства носителя и свойств), а сопоставить его бытие (явление) с его сущностью; в единстве они и показывают, чем объект становится в действительности. Мы приходим к рассмотрению бытия субъекта (как общественного бытия) и его сознания (как общественного сознания) — их взаимной рефлектированности. Далее следует обычный (по Гегелю) переход к самосознанию и разуму.
Однако помимо "прямых" характеристик субъекта (полагающих его как объект или продукт) есть также "косвенные" пути. Например, поскольку субъект определен как универсальное опосредование, возможно выделение субъектных сторон в тех объектах, связи между которыми опосредуются субъектом. Ясно, что эти стороны объектов входят в материальный носитель субъекта, но могут и выступать относительно самостоятельно, объектно, как "вторая природа" вещей. Но и такие "вторичные" (опосредованные субъектом) отношения между объектами (в частности, общественные отношения), — то есть, само это опосредование, — могут входить в деятельность как объект; идеальное в человеке таким образом всегда воплощается в материальном (дух обретает плоть) — и обратно, всякое воплощение требует расширения сферы субъектного опосредование и на эту материю (что вульгарный материализм формулирует односторонним образом: бытие определяет сознание).
Разумеется, в каждом воплощении универсальность субъектного опосредования представлена лишь ограниченным образом. Отсюда кажущиеся аналоги человеческого в отношениях неодушевленных вещей и живых существ. Однако формальное тождество не отменяет совершенно разной содержательности — и надо каждый раз аккуратно выяснять, о каком уровне мира идет речь.
* * *
В природе нет ничего необъяснимого. Потому что, объясняя природу, мы лишь объясняем себя себе.
* * *
Старая шутка об идеях — выходит за рамки юмора. Невозможно обменять одну идею на другую — но можно поделиться идеей. Значит, невозможен рынок идей — а возможно нечто иное, чему в классовой экономике аналогов нет (по крайней мере, пока в ней не обнаруживаются проблески бесклассового будущего). Снимая противоположность материального и духовного производства, мы устраняем и отчуждение продукта от производителя (а следовательно, и от потребителя); на место обмена встает прямой доступ каждого к общественному продукту. Как это будет устроено — предсказать трудно. Находиться сразу всем в одном месте в одно время — это похлеще тысяч чертей на кончике иглы! Но принципиальная возможность есть — и остается лишь определиться с этапами исторического пути.
* * *
Мистики спекулируют на противоречиях между внутренним миром человека и его непосредственным окружением — и примирение ищут "в пространстве чистого сознания". Занятие глупое: что в таком случае представляет собой сознание — и в чем его чистота? Фрейд здесь последовательнее: сознание он помещает на границе внутреннего и внешнего — и оно принципиально не бывает "чистым": не само по себе, а пропитано элементами внутреннего и внешнего, превращает одно в другое. Граница — единство внутреннего и внешнего; но у нее есть соответствующие определенности, а сама возможность соединения — не абстрактная идея, а то, как организована человеческая деятельность — практика. Соответственно, есть внутренние и внешние практики — что мы и наблюдаем во всех без исключения религиозных течениях. Ритуальные действия, жесты, созерцания и медитации, молитвы — все это пародии на общественное производство, в которых от человека остается только одно: необходимость делом обнаружить разумность. Формальные (мистифицированные) практики — лишь изуродованная (урезанная до индивида) общественная практика, преобразование мира в интересах людей. Только ради этого имеет смысл работа над собой — включая разного рода психотехнику с использованием подручных средств. Выпить кофе не для ради кофе — а взбодриться, подготовиться к настоящему делу (которое тоже не ради себя, а в контексте единства мира). Религиозные практики двух сортов (индивидуальные обряды — или массовые действа — лишь подчеркивают противоположность внутреннего и внешнего; снять ее может только общественная практика, совместный труд и общение. А практику невозможно ограничить индивидом, замкнутым сообществом или публичностью — разуму полезно все в разумных пределах. Но важнее всего — не зацикливаться ни на себе, ни на природе: переделывать и то, и другое — вопреки диктату традиций и догм.
* * *
Тела не умеют двигаться быстрее света — по крайней мере в нашем нынешнем понимании. Я не могу переместиться в далекую галактику физически — никаких жизней не хватит. Да и зачем, если все так долго? Однако для моей мысли никакие расстояния не помеха — и вообразить себе я могу что угодно, независимо от совместимости этого с моим телесным существованием.
* * *
Изобретательство — переход рефлексии в практику. Сколь угодно великие открытия без этого оставались бы за бортом культуры, пустыми игрушками, полезными лишь как пример, абстрактная возможность. Иногда ученые вынужденно становятся изобретателями (как, например, Э. Ферми в проекте создания атомной бомбы); но им хватает простора и в рамках науки: получить аналитическое решение каких-то уравнений — тоже требует практической сметки, а не только знания основ.
Когда изобретательство пытаются поставить на поток — это само по себе нормально: рефлексия универсальна, и в конце концов коснется всего. Однако навороченные системы ТРИЗ так и остались чудачеством, курьезом — и преподавание технологии изобретения если и оказалось кому-то полезным — то лишь за счет расширения кругозора, знакомства с работой других, историей изобретений — а не с туманными теориями. Почему? Прежде всего, из-за принципиально рыночной направленности: изобретателей учат делать не абы что — а то, что возможно присвоить, запатентовать, — или продать права. Так было даже в советское время; тем более в гнилом буржуинстве. Упор не на сделать нечто общественно важное — а на отличиться (словечко патентной формулы!), быть не со всеми — а не как все. Нечто подобное — и в литературных вузах, и в художественных студиях, и при обучении ремеслам... — творчество превращают в спорт, разум вгоняют в дикость. Банальная защита диплома или диссертации — требует выпячивания (хотя бы надуманной) новизны, подборки комплиментов со стороны — или самому себе. Публикация статьи в научном журнале — азартная игра: бросить на стол издательский взнос — и надеяться, что рецензенты сумеют сопоставить с собой и найти пару отличий (а больше — уже вредно: за гранью понимания). Основное правило бизнеса: найти рыночную нишу и выкачать все возможное до наплыва конкурентов.
В теориях изобретательства немало действительно интересных наблюдений и перспективных схем — но сделать это культурным достоянием возможно лишь методом очистки от бездуховности, от коммерческого духа. Мы творим не потому, что это для чего-нибудь нужно, — а потому что этот нам нравится, и кажется достаточно разумным. Важно быть не идеальным, не продуктивным, ... — важно просто быть, оставаться разумным существом, а не органом (пусть даже жизненно важным), и не конструкцией (пусть даже на чем все держится). Субъект как универсальное опосредование соединяет все со всем — но остается он субъектом лишь в качестве этого соединения, как единство мира. Стоит выделить себя из целого — не будет ни единства, ни универсальности, — и человека не будет.
* * *
Материя бесконечно разнообразна — но нет ничего, что человек не сумел бы втянуть в деятельность. В отличие от человека, разумного существа, — человеческое тело есть существо природное, и потому заведомо ограниченное. Органическое тело может вбирать лишь то, что предусмотрено его физиологией — и действовать на мир в тех же рамках. Чтобы преодолеть эти ограничения, человек изобретает вещи, способные опосредовать поведение организма, так что возможности улавливать природные движения и вызывать их возрастают без предела. Если организм когда-нибудь не будет справляться с превосходящим его неорганическим телом — человек откажется от этой органики ради чего-то более подвижного, специально для этого человеком созданного.
Эмпирионатурализм не замечает бесконечности разума — и для него возможности восприятия предельно узки: все сводится к обычным для земной жизни органам чувств, а воздействие на мир — к мышечному усилию. В начале XX века такие воззрения еще можно было бы оправдать; в конце века курс на вытеснение "естественной" органики из материализаций субъекта совершенно очевиден.
В связи с этим безнадежно устаревшей кажется и старая теория, связывающая "интеллектуальность" человека лишь с "высшими" чувствами — зрением и слухом, которые способны уловить мировую гармонию, в отличие от древнейших органов обоняния и осязания, вкуса, интероцепция и проприоцепции. Теория заведомо необоснованная — ибо еще на заре человечества индустрия благовоний тренировала ольфакторный интеллект, а кулинария — изысканность вкуса. Слепые способны к сложному тактильному общению — но даже оставляя в стороне якобы "дефектные" категории, вспомним о богатстве оттенков половой любви — поскольку она вытекает из любви духовной, и ее органическими проявлениями руководит разум. Вполне возможно, что более динамичная жизнь, подвергающая тела более разнообразным ускорениям, позволит улавливать и оттенки гравитационных полей.
Современный человек все еще использует старые "органы чувств"; однако у него уже вырабатывается чутье иного рода — когда широкое применение искусственных органов позволит непосредственно ощущать происходящее не здесь — и, возможно, не сейчас. На этой основе складываются новые представления о красоте, о благе, об истине — само различие которых в условиях универсальности каждого и утверждения личной свободы становится несущественным и неуместным.
* * *
Воспроизводство субъекта — на трех уровнях (они же стороны целого и этапы развития).
Прежде всего одни производят других — как обычные продукты, предназначенные для чего-то определенного (в данном случае — для универсального опосредования). Субъект при этом воспроизводится не как таковой, а лишь как предмет, тело, материальная предпосылка, возможность субъекта. Там, где потребление отделено от производства, такой субъект становится и предметом потребления. Такое, вещное воспроизводство духа мы называем духовным производством, или рефлексией (в узком смысле слова). От материального производства рефлексия отличается лишь формально, характером продукта, — то есть, как одна из возможных отраслей. Мы обращаем на нее особое внимание лишь памятуя о других уровнях иерархии — опять, же авансом приписывая духовность носителю духа.
На уровне творческого общения субъект сам себя производит и сам себя потребляет (или как-то иначе относится к себе). Это существенно рефлектирующий человек, человек как универсальная рефлексия. Мостиком к этому уровню от духовного производства (рефлексии) служит синтетическая рефлексия, производство идей. Синтетичность все еще предполагает обособление продукта от деятельности — снятие этой обособленности превращает деятельность в способ выражения субъектности, в поведение. Соответственно, для других человек уже не то, что он делает — а то, как он себя ведет. Это обычно и передают категорией личность.
В общении снимается противоположность производительных сил и производственных отношений — и мы здесь говорим не о способе производстве, а о характере общения. В классовом обществе характер общения играет роль базиса по отношению к всевозможным общностям (надстроечным образованиям) — так что личность не только сознает себя в качестве творческого начала, но и чувствует себя представителем иерархии общностей. Снятие таких (неформальных) опосредований освобождает дух; это другая сторона экономической свободы.
Личность — абстракция универсальности, олицетворение свободы. Однако воспроизводство духа в творческом общении все еще остается односторонним, поскольку его универсальность лишена плоти, сама по себе абстрактна. Человек, вроде бы, может приводить в движение любые тела и стать выражением общественно-культурного единства — но особого смысла в этом нет. Общение ради общения — лишь подготовка к деятельности.
Единство и снятие ограниченности труда и творческого общения — новый уровень воспроизводства субъекта, на котором человек оказывается элементом культуры и развивается вместе с ней. Строение культуры определяет как может воплощаться дух и как его плоть влияет на духовность. Это означает, в частности, взаимопереход личного в общественное и обратно. Культура побуждает человека к деятельности, придает этой деятельности общественный характер; но каждое деяние человека, в свою очередь, оказывается явлением культуры — и влияет на него самого, меняет соотношение материального и духовного, труда и рефлексии. Если в духовном производстве мы говорим о росте сознания, а в общении вырастает самосознание, — на уровне культуры воспроизводится разум как единство сознания и самосознания. В труде воспроизводится индивидуальность человека; в общении он становится личностью; в качестве единичного выражения культуры — человек совпадает с обществом, превращается в социум.
Все эти уровни равно представлены в субъекте — но на первый план иногда выходит что-то одно. В малых масштабах (здесь и сейчас) относительная устойчивость материальной базы ведет к преобладанию обращения иерархий в производственной сфере (человек кажется одним и тем же на протяжении "жизненного пути" — и меняются только биографические детали). Напротив, подвижность личностных связей выглядит как регулярная интеграция разных личностей, расширение круга и опыта общения. Это приводит к росту иерархии субъекта вглубь, установлению все большего объема взаимосвязей. Собственно развитие, появление более высоких уровней, — только путем установления общекультурных связей, через участие человека в историческом процессе, когда история общества становится личной историей.
* * *
Если на вопрос: о чем эта книга? — возможно дать хоть какой-то ответ, книгу читать уже незачем. Что хотел сказать автор — не имеет ни малейшего значения: важно, чтобы читателю хотелось что-либо себе уяснить, или хотя бы пережить прочитанное (от одного слова — до многих томов). Один человек будит человека в другом — и через это становится человеком сам.
* * *
Суждения о далеких предках человека — неизбежно пропитаны современностью. Само по себе — это и правильно, и нормально. Снимать с себя все и рядиться в шкуры, бросать уют и гнить в пещерах (по призыву некоторых ревнителей аутентичности) — наиглупейшая затея, ибо с дикостью внешней вернется и дикость внутренняя: мы лишаем себя того языка, на котором хоть как-то возможно говорить о времени со стороны, освободиться от его власти. Не освобождаться — тогда зачем? Быть дикарем можно и в суперсовременном обиталище.
Буржуазное искусство имитирует безыскусность прошлых веков, превозносит свежесть и непредвзятость — как синоним и научности, и субъективности; снова — извне или изнутри, чисто эмпирически, естественно, без малейшей попытки осмысления. Буржуазная наука и философия — тот же уклон в бессмыслицу, нагромождение ничего не означающих знаков и ничего не символизирующих символов. Поданные разным тоном, взгляды подкупают наивностью или убедительностью. Это всего лишь мнения — всего лишь образы — и мы за них не в ответе.
Скрытая (и тщательно скрываемая) суть — самосохранение класса, страх потерять награбленное, лишиться возможности выезжать на чужом горбу. Признание самоценности прошлого — равносильно отказу от будущего. Умиляться нравам простодушных дикарей — навсегда погрязнуть в слепой жестокости, которую так легко направить в нужное русло далеким от милоты. Когда заезжий турист восторгается внешней простотой и умиротворенностью народного быта — он предпочитает не вспоминать, что само его путешествие — итог всевозможных лишений миллионов людей, кому не до поросячьих восторгов, кому приходится тупо выживать, — но ничего другого они никогда не видели, и не увидят, и не способны вообразить. Мы можем интересоваться троглодитами лишь потому, что они не могли бы заинтересоваться нами.
Нагромождение деталей — якобы свидетельство пристального внимания, заинтересованности, зоркости и проницательности. Иной раз кажется (или не только?), что автор больше блистает эрудицией, чем постижением предмета, — выставляет напоказ привилегированность: вот, я там был, и все видел, — а вам, смердам, не дано... Но здесь не только тщеславие: с позиций предприимчивого буржуа, все находки, возможно, равноценны — но по-человечески не равно важны. И тогда стремление подавить количеством (широтой охвата, или точностью) оказывается лишь маской спецназовца, призванного охранять денежный мешок — объявленный общечеловеческой ценностью.
Многознание может быть полезным. Ум тоже. Но нам они нужны не сами по себе, а ради такого мироустройства, в котором нет места ни взглядам со стороны, ни интеллигентствующим капризам. Не созерцать или познавать — а творить. Проникнуться бытом дикаря, проникнуть в его душу, — только затем, чтобы отыскать в дикости лучик света, по которому мы пойдем в наше будущее. Нас интересуют не отдельные черточки и характеры — интереснее обнаружить за всем эти разум, единую человеческую основу, возможность общаться не взирая на культурные различия. Тогда детали — будут именно деталями, образом целого, а не наблюдениями в себе. Буржуазная наука и эссеистика — чистая абстракция, зияющая пустота, бездна, падать в которую можно бесконечно. А мы не хотим в бездну — мы делаем бездонность частью себя, наряду с плотью, — чтобы снять их противоположность и назвать это мечтой.
* * *
Как и везде, в рефлексии свои стадии и уровни. Поначалу мы просто приглядываемся к тому, кто и как себя ведет, — улавливаем что-то полезно для себя и пытаемся примерить шитое не для нас. Удачно получилась — все рады. Не получилось — ну и ладно, поищем другое. Метод безотказный — поскольку практически у всех рассуждающих и пишущих можно найти пару-тройку интересных идей (чаще всего списанных у кого-то еще, кто списывал у более отдаленных предков — и так в минус бесконечность). В этом, между прочим, сказывается единство человеческой культуры — а единство разума отражает единство мира.
Когда рациональные зерна начинают повторяться с утомительной монотонностью — пора переходит к следующей технологии: вместо (ставших прописными) истин, мы обращаем внимание на ошибки — то есть, на то, что поначалу шло в утиль. Тут выясняется, что хрен редьки не слаще — и коллекция ошибок как две капли похожа на коллекцию истин, с обратным знаком. В общем-то, этого и следовало ожидать — поскольку все сводится к нашим предпочтениям, и вычитываем мы у других только то, что умеем.
Что дальше? Примитивный вариант — дать свод обнаруженных истин (в качестве назидания потомству) и дополнить его сводом ошибок (в качестве своевременного предостережения). Ну и что? Имеем еще один трактат — в котором кто-то другой сможет усмотреть все то же самое, но в другой комбинации, сообразуясь с собственными интересами и манерами.
Вспоминаем, что если истину скрестить с заблуждением — может получиться нечто занимательное, не похожее ни на то, ни на другое, хотя и с налетом родства. А значит, от наблюдения за человечеством (включая себя) надо переходить к наблюдению за наблюдением — честно выяснить, почему одно оказалось с одного боку, а другое с другого. Легко догадаться, что ни из каких личных особенностей это не следует — а суть в строении культуры и перспективах ее дальнейшего развития; индивидуальные предпочтения — всего лишь обозначают тенденции, придают им видимые формы, в силу чего мы таки способны о сознания подняться к самосознанию.
Проблема в том, что знаками истории поначалу можем быть только мы сами — как совокупность общественных отношений, то есть, штука совершенно нематериальная и невыразимая ни на каком языке; наше раскладывание по кучкам и есть такое синкретическое воплощение будущей духовности — и потому (в нынешних условиях) начинать всегда приходится с партийности, идейного размежевания в надежде сколотить потом достаточно мощные коалиции. Тогда названия партий станут ярлыками не высказанной до сих пор действительности — и можно запускать процесс заново, переползать на следующую ступеньку.
По вопросам воспроизводства человека как разумного существа мы сейчас чуть дальше второй стадии. То есть, основное внимание критике эмпирионатурализма — но с попытками соотнести возражения с доступными на данный момент положительными принципами разной адекватности и ясности. Отсюда резко партийный душок — не без перегибов. Но критическое отношение к собственному критиканству дает шанс выработать хотя бы предварительны категории и схемы для еще не сложившейся идеологии, в которой классовые предрассудки займут положенное им место — станут музейными экспонатами. Нет задачи построить нечто грандиозное и всеобъемлющее, выкатить на публику очередную теорию всего. Скорее, приглашение придумать каждому свое, сотворить наш общий мир всем миром. Наш вклад — вроде указателя на экране компьютера, после которого каждый вправе набрать свой текст (или не набирать ничего, перейти в другое окно). При любом исходе — мир чуточку изменится, а для этого и нужен разум.
* * *
Аналогия и области информатики: если файл перенести с одного диска на другой (или вообще убить на диске, но оставить в оперативной памяти) — налицо факты создания и уничтожения файла, времена рождения и смерти. Но сами данные при этом никуда не делись: они преспокойно обитают в другом носителе, или даже сразу на многих; есть и распределенный вариант: что-то здесь, что-то там...
Точно так же, органическое тело смертно — но его рождение и смерть ничего не говорят о человеке как личности, как субъекте. Сотню лет назад это показалось бы крутой фантастикой — а сегодня мы можем запросто представить себе как перенос личность с одного материального носителя на другой, так и распределенное (или множественное) существование. Есть принципиальная возможность — дальше дело техники, переход к массовой доступности. Какие-то варианты есть прямо сейчас — и работают даже в условиях классовой экономики; устранение классовых ограничений откроет новые направления, и не оставит места для страхов и мистики.
* * *
Поборники "высокой" науки презрительно фыркают на вольности слога каких-нибудь беллетристов — или философов. Предрассудок: точному знанию нужен точный язык. Но далеко не все в разуме требует знания — а о точности уродливого наукообразия вообще говорить не приходится: поэт или философ (или просто человек с улицы) часто выражаются намного точнее академического ученого, громоздящего "строгие" высказывания ни о чем. Язык не для того, чтобы говорить — а чтобы сказать. Если мы не умеем передать полноту нашего отношения к миру на искусственно ограниченном (ломаном) языке — это проблемы дурного языка, косноязычие, — и надо искать иные средства общения.
Стандарты общения в узком кругу — порождение классового общества; языковые барьеры — часть всеобщего отчуждения, рыночной конкуренции. Воры разговаривают по фене — ученые отгораживаются от мира терминами и формулами. Ни в том, ни в другом — ни капли смысла, ибо в конечном итоге общаться предстоит с людьми, а не с корешами или коллегами.
* * *
Продукт деятельности — не просто вещь, а общественная вещь, заранее предназначенная для удовлетворения потребностей человека (хотя и не всегда ясно, кого конкретно). Точно так же, общаемся мы не с абстракцией собеседника, а с обществом — иногда в лице единичных или коллективных представителей. Может показаться, что поэт или художник разговаривает сам с собой, — но его внутреннее чувство лишь выражение всеобщего, общественной связи. Точно так же, сколь угодно абстрактная наука возникает как выражение и продолжение истории человечества. Следовательно, и наши рассуждения не витают в пустоте, а имеют какого-то адресата и рассчитаны на определенную аудиторию.
Возможно, в составе этой аудитории не числится ни один из ныне живущих. Действительно, слишком вольная стилистика сразу отпугнет рационалистически мыслящих — однако особой популярностью текст также не отличается, и многочисленные аллюзии на культурные реалии разных веков вряд ли понятны тем, кто не варился какое-то время в той же мешанине разнородных источников, из которой выросли мы. Опять же, воспитанный в рыночных традициях обыватель не захочет читать наезды на капитализм — тогда как убежденные коммунисты (если таковые где-то еще остались) вряд ли стерпят наглое развенчивание признанных авторитетов (которые при этом остаются классикой и для нас). Быть может, следовало быть проще — и сразу определиться с уровнем культуры, под который нашу писанину удобнее заточить?
Есть подозрение, что такой подход не соответствует самой сути собранных здесь воззрений — и ограничивать круг читателей какой угодно культурной нишей было проявлением неуважением к личности, ущемлением свободы, неразумностью. Нет у нас намерения становиться пророками новой религии — нам бы избавить человечество от всяких религий. Начиная, конечно же, с себя. Вот мы и предлагаем желающим самые разные обертки для не самого традиционного содержимого: что кому приглянется — на том и спасибо. А на нет и суда нет. Остается тешить себя надеждой, что пестрота не всегда перерастает в эклектику, — и что за упрямством не обязательно стоит догматизм. Истины без претензий, взгляд со стороны без отстраненности; все очень личное — и кто нас полюбит, тому и наша любовь.
* * *
— Зачем комментировать мелкие писания никому не известных авторов? Тем самым вы рекламируете всякую шушеру — вместо того, чтобы ориентироваться на своих духовных учителей, и привлекать к ним общественное внимание.
— Вы полагаете, что мы настолько значительны, что наш отзыв мог бы кому-либо сделать честь? Грубая лесть, она, конечно, приятна... Однако у наших учителей хватает заблуждений и ошибок; в каком-то смысле уважительнее демонстрировать ляпы на других примерах (хотя и в лицо сказать не побоимся). Если на то пошло, мы вообще никогда не говорим о конкретных именах и творениях: нам важнее уловить общую тенденцию и объяснить самим себе, почему такой образ мысли и действия лично нам перенимать не следует. Иногда критика может казаться однообразной: про всех одно и то же! Но — еще раз — мы не считаем себя настолько значительными, чтобы имело смысл читать от корки до корки; а случайно встреченная фраза кому-то приглянется независимо от нашего участия в порождении именно этой общности. Ветерок пролетел — но его ли заслуга аромат роз?
* * *
Когда мы говорим, что религиозные (и прочие) догматы суть изуродованные классовой экономикой всеобщие формы деятельности — мы признаем, что всеобщее содержание во всей этой дряни однозначно есть. Другое дело, что далеко не у всех есть желание разгребать кучи дерьма в поисках утопленных алмазов. Но когда уж очень мечтается о разумности — а ничего разумного система не предлагает, — приходится выражать открытия не самыми подходящими словами или делами.
Например, азиатские мистики утверждают, что их мандалы суть образы мира, — и они таки правы! Потому что всякая схема — о том, как человек в своей деятельности восстанавливает единство мира, связывает воедино разрозненные вещи и отношения вещей. Можно, по-европейски, исходить из триады
материя → рефлексия → субстанция
и развертывать ее разными способами применительно к практическим потребностям; но это ничем не отличается от абстрактной картинки-мандалы, где точно так же словесные обозначения категорий размещены неслучайно, следуя предполагаемым (существенным) связям. Именно абстрактность этой схемы позволяет по-разному ее развертывать — чем и занимаются разного рода практикующие. Если символы формулы понимать как понятия (отнести к некоторой предметной области) — это уже не всеобщая схема деятельности, а инструкция или рецепт; над этим медитировать незачем — это свернутые деятельности, операции; их надо передавать на откуп роботам. Но сколь угодно простую формальную конструкцию (типа правил дифференцирования) можно понять и как фундамент картины мира — и тогда те же формулы (мандалы) реально помогают в самых неожиданных ситуациях, исходной теорией никак не предполагаемых. Эту универсальность идеалисты и мистификаторы выдают за бессодержательность — и вместо того, чтобы добиваться разумности, предлагают развлекаться бессмысленными формальными играми.
Понятно, что схемы вовсе не обязательно представлять веселыми картинками: любые действия можно использовать в переносном смысле, как коды того, что никакими конечными конструкциями не выразимо. Традиционная индийская троица: мудра (жест), мантра (слово), янтра (образ); это вполне соотносимо с европейскими средневековыми представлениями, выделяющими мышечное движение, слух и зрение (или их аналоги) на первый план среди прочих способов восприятия и воздействия на мир. Образованному человеку такая избирательность покажется смешной; но в условиях, когда задумываться некогда (или нечем), — и эта схема способна показать какие-то кусочки целого.
Развитие и дополнение такой рефлексии — утилитарность любви в классовом обществе: человеческие (духовные) отношения неотделимы от обладания, от дара, от всевозможных залогов и клятв. Чем шире наше участие в движении культуры (историческом процессе) — тем свободнее наша любовь, и от формул мы переходим к схемам, от схем к принципам, от принципов — к творческому общению и труду.
* * *
Казалось бы, что плохого, если мы приводим вещи в порядок, соединяя похожие и различая разные, — и потом устанавливаем общность полученных таким образом групп? Что может быть привычнее классификации? А как только построили башенку — уже можно искать логику: все люди смертны — и мы когда-нибудь помрем...
Неувязочка со следующим этапом: если есть у нас классификация и логика — появляется соблазн объявить ненашенские классификации неправильными, а суждения нелогичными. Когда у кого-то хронически все не так — начинаем подозревать умственную отсталость или психическую болезнь. Ну, пока все сводится к нашим личным вкусам — предположительно, ничего смертельного (хотя и здесь уже попахивает ограничениями, плохо совместимыми с разумом). А, вот, если учесть, что в классовом обществе личные мнения одних всем остальным положено принимать как обязательные к исполнению, — получается очень некрасиво: неправильными и больными правящий класс (или его наемный приказчик, помимо хозяйских интересов, преследующий и свою корысть) может объявить кого угодно, и не просто объявить, но и лишить каких-нибудь прав, и наложить какие-нибудь обязанности. Классовая логика сразу же начинает по-разному работать для разных общественных слоев — и в итоге воспроизводит классовую структуру общества во всех подробностях. Потому борьба угнетенных классов за освобождение начинается с неприятия и разрушения господствующей логики — и только на этой основе можно в будущем сделать как-то иначе. И точно так же, освобождение общества от психических болезней начинается с умения усмотреть логику в самых больных фантазиях (хотя эта логика вовсе не обязательно совпадает с логикой якобы больного).
Классификации — выражение классового неравенства. Логически заключая, что некий Ванька Иванов принадлежит семье (или происходит из семьи) Ивановых, которые все вместе принадлежать к категории русских, а русские часть славянского мира, который, в свою очередь, выделился из индоевропейцев, и что все они по большому счету части одного человечества, — мы на каждом уровне допускаем навязанные сверху логические ляпы: предполагается, что есть такое понятие, как семья, — что есть народности и нации, что можно возвести разные народы к общим предкам, что человечество есть нечто единое. Ни один из этих постулатов не выполнен в действительности — а единство человечества, скорее, только предстоит установить, после уничтожения классовых структур.
Так что же, отказаться от всякого порядка — и тупо созерцать поток явлений, уже не отличимый от потока сознания? К этому призывают самые рьяные защитники господских привилегий, неопозитивисты; следовательно, что-то не так и с этой логикой.
Иерархический подход исходит из того, каждая иерархия (то есть, по сути, все, что включено в человеческую деятельность) представима различными иерархическими структурами (обращениями иерархии) — но среди этих структур нет никакой выделенной, главной: все они одинаково необходимы для универсального (разумного) отношения к действительности. В иерархии обращений — также могут возникать иерархические структуры (классификации) и иерархические системы (логики). Однако если какие-то обращения иерархии возникают чаще других — это знак застойности общественного и экономического развития, и пора задуматься о новых направлениях, снимающих прежние различения, полностью устраняя их из повседневного обихода.
Прежде всего это касается отношений между людьми. Возможно, потом, когда классовые пережитки уйдут в самые глубины истории, этическая проблематика не будет столь остра. Но пока людей делят на мужчин и женщин, взрослых и детей, руководителей и исполнителей, господ и рабов, здоровых и больных, — с логикой придется повоевать.
* * *
По своей сути, общение людей — передача деятельности от одного субъекта другому, своего рода делегирование полномочий. Никакое производство (материальное или духовное) не может быть завершено силами одного — оно опирается на совместность, объединенные усилия многих. Хотя бы потому, что продукт деятельность для чего-то (то есть, для кого-то) предназначен (даже если производитель и потребитель сочетаются в одном лице).
Допустим, я чем-то занят — потом приходит время переключиться на другое, и я поручаю продолжить начатое кому-то еще. Способы самые разные. Универсальный механизм, язык, складывается не сразу — и до сих пор дополняется неязыковыми средствами. В простейшем случае, мое органическое тело совершает нечто, в результате чего другое тело начинает двигаться в соответствии с моими задумками; внешне это очень похоже на физическое взаимодействие или контакт особей, — однако уровень совсем другой: если природные тела после контакта движутся сами по себе — переданная другому деятельность сохраняет частицу меня, воспринимается как общий труд. Однако в нулевом приближении (в пределах одной материальной реализации) общение выглядит особым (общественно опосредованным) взаимодействием индивидов.
В развитой культуре человеку уже не требуется передавать что-либо непосредственно: чаще всего, мы приводим в движение общественную машину, взаимодействуя не с индивидами, а с мертвыми вещами, движение которых в конечном итоге передается и биологическим телам. Человеческое действие опосредовано многочисленными инструментами и орудиями, составляющими расширенное тело субъекта, в котором органическая составляющая может занимать незначительную часть, или даже вообще отсутствовать. Даже в звучащей речи между нами распространяются колебания воздуха; письменная речь устраняет эту непосредственность, позволяя общаться на любых расстояниях, и через время. Тем не менее, общение пока остается вполне материальным воздействием на мир, в результате которого целенаправленно меняется характер движения человеческих тел. Будем мы жестикулировать, издавать звуки, нажимать на кнопки, или обмениваться грезами, — большой разницы нет.
Возникновение глобальных компьютерных сетей позволяет сделать следующий шаг: полностью устранить органическое тело как источник или приемник сигнала. Может показаться, что эта воспроизводящая "сама себя" деятельность неотличима от самоподдерживающихся природных процессов — и субъект (дух) в ней вообще не нужен; тем самым развитие от неживой к живой материи, и далее к разуму, в итоге возвращает мир в "естественное" состояние, которому никакое сознание ни к чему.
Да, такое свертывание деятельности — один из необходимых ее моментов; однако автоматизация всегда дополнена одухотворением — одно не бывает без другого. Выпадающее звено — не дух, не субъект, а всего лишь одно из тел, органическое или нет. То есть, речь не об "исчезновении" субъекта — а о перевоплощении, представленности того же духовного явления другой совокупностью материальных тел (или отношений между телами). В классовом обществе подобные виртуальные образования все равно привязывают к органическим телам (например, фирма формально обозначена именем ее владельца). Переход к обществу без собственности лишает такие связи всякого смысла. Целостные образования любого типа могут представлять субъекта деятельности. Дух — не движение тел само по себе; он то, что объединяет очень разные движения, делает их выражениями одного и того же. Воспроизводство духа невозможно без воспроизводства и преобразования представляющих его тел — но создание еще одного автоматического производства не устраняет дух, а освобождает его для чего-нибудь более творческого.
В качестве промежуточного этапа — имитация органических тел в неорганическом материале. Звукозапись и видео — свидетельствуют о принципиальной возможности: звуки и образы как физические объекты никоим образом не зависят от голосового аппарата или еще чего-нибудь органического. Имитации станут неотличимыми от следов — и больше не нужны живые прототипы. Речь не только о дистанционном общении: ничто не мешает поселить придуманные (виртуальные) персонажи в подобия органических тел. Буржуазным фантастам такие "подделки" кажутся черным кошмаром; но что в них ужасного, если нам нечего делить? С другой стороны, существование виртуальных субъектов знакомо людям с доисторических времен: используя произведенную кем-то вещь, мы лишь предполагаем, что в ее создании участвовали какие-то люди (точнее, их тела); но продукты автоматизированных производств имеют к органике очень косвенное отношение — а плоды искусственного интеллекта могут быть вполне реальны и полезны.
В конечном итоге отомрет жажда человекообразности — и мы станет свободны в изобретении удобных для нас тел, и сможем менять их под практические задачи или настроения. На этом пути человек обретет бессмертие — а вовсе не через облагораживание полутрупов. Живое рождается и умирает — потому оно и живое. Жизнь можно удлинять или укорачивать — но в любом случае это конечный диапазон. Разум — не удержать ни в каких границах, ему мало и бесконечности. Способность свободно отказываться от любых форм и свободно принимать любые другие формы (в том числе идеальные) — главное отличие разумного существа от природных вещей. В той мере, в которой мы это умеем — мы бессмертны уже сейчас. Осталось только разумно распорядиться этим наследием — и помечтать о другом.
* * *
У всех народов с доисторических времен существует отрада сказки. Делились друг с другом, собирались вокруг сказителя, передавали из поколения в поколение. Когда научились писать — былой сказочности приходит конец: записанная сказка — уже не поток, не становление; это нечто абстрактно данное и общепринятое — вроде писаных законов или религиозных догм. Чтобы восстановить сказку из текста — надо ее сыграть для себя; не у всех есть к этому вкус и возможности. Кино и звукозапись в какой-то мере восстанавливают магию — но рыночное цунами почти начисто сметает островок сказочности, который уже и не сыскать в водоворотах рекламы.
Спонтанность сказки — напрямую связана с ее главной задачей: воспитывать активное отношение к миру. То есть, не принимать все как есть — а прикинуть, как оно было бы, если бы... Даже если мы не можем прямо сейчас исправить кривости бытия, у нас есть хотя бы идея исправления — возможности (а значит, и неизбежности) изменений. Сказка выстраивает мир "как надо" — поэтому, с одной стороны, фольклор признает только сказки с хорошим концом, но другая сторона в том, что для этого требуется определиться с понятием хорошести — и сказки неизменно скатываются к чрезмерному морализаторству. Чем очень удобно пользоваться властям: подсунуть нужную картинку, подменить одно другим, — это у них отлаженная технология; в итоге народные сказки становятся антинародными, закрепляют (вбивают в подсознание) идеалы господствующего класса, вечность деления на добро и зло, богатство и бедность, барина и холопа. Тем не менее, сама возможность создавать сказочные миры — угроза цивилизованному миропорядку: каждая шавка замахивается на вершение судеб в своем выдуманном мире — и если до практических мер дело не дойдет, это все равно как фига в кармане — никакого почтения и раболепия!
Конечно же, на всякий тык найдется затык. Придумали и на сказочников управу. Если нельзя запретить фантазии — следует их регламентировать! Сочинительство передали в лапы роботов — так что теперь любой сумеет ввести от фонаря типовые параметры, а на выходе получить профессионально выполненный текст (и даже на нескольких языках). Строительство миров поставлено на поток — вокруг каких-то проектов образуются фан-клубы, но можно и частным порядком — все равно смысла в этой возне ноль. Чего и добивались.
Возможно, картинка чуток подретуширована — исключительно, чтобы выпукло обрисовать тенденцию. Хотелось бы допустить, что не возобладает до такой степени, чтобы заниматься миростроительством уважающему себя субъекту стало противно. Потому что есть одна область, где без сказок — никак нельзя, где вся прелесть в пересказе хорошо знакомого и удивительной неисчерпаемости знакомства. Без этого человек вообще не человек, и нет у него ни разума, ни свободы. Это любовь.
* * *
Буржуазное книгопечатание заточено под коммерцию: книги издают не для людей. а для продажи. Отсюда уродства полиграфии. Удобство чтения никого не волнует; главное выделиться из фона, хотя бы на мгновение, — сорвать куш и полететь дальше. Не оформление — а трюкачество, стремление привлечь броским жестом. Неумеренное украшательство (даже высокохудожественное), необычные форматы, претензии на широту охвата в сериях... — все это рекламные заманки, не более. Старинный прием — размещение на обложке или титульных листах многочисленных отзывов, якобы полученных из авторитетных источников. Разумеется, все это плоды фантазии копирайтеров — а имена рецензентов либо никому не известны (вымышлены), либо ссылаются на межиздательский договорняк (как в басне: кукушка хвалит петуха). Большой чести автору такие фокусы не делают — равно как и тиснутые там же рекламные биографии (предоставлять их издательства обязуют самих авторов), где человек выглядит гибридом рыночного супермена и напыщенного петуха.
Реакции на написанное — не имеют ни малейшего отношения к тексту; это другая культурная ниша (зачастую не требующая даже поверхностного знакомства). Пожалуй, единственное, что могло бы заинтересовать автора и будущих читателей, — отрицательные отзывы, публичная ругань по поводу; если мы сумели кого-то крепко уесть — значит, наша писанина не совсем бессодержательна, и тогда даже приписанные нам (анти)заслуги — знак общественного небезразличия.
* * *
Нам не интересны великие люди — нам нужны великие идеи. Чтобы не ютиться в тени, а вырастать из.
* * *
Искусственный интеллект — всего лишь компьютерная программа. Программы пишут люди. Что они туда заложат — то и получат на выходе. А закладывают — что бог на душу положит: комплект ходячих предрассудков. Поэтому интеллект у компьютеров на уровне среднего идиота. Можно использовать искусственный интеллект для получения подсказок, вариантов выбора. Но верить идиоту на слово было бы несколько опрометчиво. Не факт, что предложенные компьютером решения окажутся оптимальными — просто потому, что компьютеру до нашей оптимальности дела нет. Решать надо своим умом, а не возводить кибероракул в ранг вестника богов. Это вполне подобно тому, как музыкант использует генератор шумов для черновых композиций, — или художник разбрасывает краски случайным образом, чтобы из этой грязи вытащить образ.
Наши программы — разновидность рефлексии, способ узнать о себе что-то новое. Глупо удивляться неожиданным находкам роботов: они лишь делают явным скрытое в нас — что мы все равно сумели бы найти, даже без компьютеров. Интеллекта для этого у человечества хватает. Человек не сводится к интеллекту — это прежде всего движение духа. Которое проявляется разными способами. Было бы обидно, если бы люди утратили индивидуальность — и человечество будущего мог представлять только компьютер.
* * *
Быть человеком — почетнее, чем быть гением. Гениальность человеку узка — она заслоняет вселенную.
* * *
Повторяя то же самое в другом контексте, мы не только показываем новые грани идеи, но и обогащаем сам этот контекст. Абстрактная схема насыщается конкретикой: используя орудие труда, мы постигаем все его возможности и его ограниченность, необходимость развития. Но точно так же, конкретность пропитывается всеобщим: она уже не сама по себе (то есть, абстрактно!) — это продукт деятельности, сама деятельность.
* * *
Выразить мысль или передать образ можно удачно или неудачно. Орудия бывают удобными — и не очень. Когда не получается — совершенствуем вещи и себя. Когда нет перспектив — меняем один мир на другой.
То же и с человеческими телами: не всякое подходит к любой личности. Запоминаются броские сочетания. Мы придумываем для них имена — как биологи систематизируют виды. Но основная струя не в этих веточках, обреченных на смерть своей завершенностью, своим совершенством. Тело будущего — в том, что еще не обрело форму, над чем предстоит потрудиться, — и чему еще нет имен.
* * *
Когда-то были писатели, художники, музыканты... Сегодня — "поставщики контента". Впавшее в природность человечество боится пустоты, изо всех сил старается заполнить ее... Чем? Мусором, экскрементами. Пометить территорию. Отсюда и пачкотня на стенах. Строительство мусорной вселенной.
* * *
Говоря от объективности, мы адресуемся лишь к рациональности, голому интеллекту. То есть, речь не о разумных существах, а о явлениях природы. Творческая деятельность, труд — заменяется работой, якобы следующей объективной необходимости. Субъект — не только природа, но и ее преобразование. Поэтому собственно человеческое начинается там, где человек способен изменить само понятие объективности, перейти от одной объективности к другой — и тем самым выйти за рамки самого себя, стать общественным существом. Этим люди отличаются от животных — и звереют (или оскотиниваются) утрачивая такую способность. Мы обращаемся с природой, следуя своим желаниям и стремлениям, — а вовсе не природным закономерностям. Когда не удается — разума нет.
* * *
Эмпирионатурализм вовсе не обязательно принимает все как есть и не стремится улучшить мир. Есть авторы, которые честно признают, что существующая практика не отвечает представлениям о разумности — и следовало бы много поправить. Более того, кое-кто даже осознает связь кривостей бытия с классовым общественным устройством и рыночной экономикой. Однако их обличения почему-то не убеждают, и дело не идет дальше эмоциональной разрядки, желания выговориться. Почему?
Подлянка в том, что всеобщее разделение труда (как система и как политика) навязывает людям иллюзию возможности ограничиться одним предметом — компенсировать отсутствие широты глубиной. Оставаясь внутри частной задачи, мы можем заметить границы — но не видим ни малейшего шанса от них избавиться. Полное внутреннее отражение. Рыба под поверхностью воды, человек на плоской земле, разум в клетке якобы единственно данной природности. Мы поставили себе предел самим характером деятельности — мы мерим себя собой. Понятно, что, если измерять скорость по отношению к скорости света, эта априорная единица во всех системах отсчета окажется той же самой. Сколь угодно правильные наблюдения не разомкнут заколдованного круга — и место мечты о свободе займет полнейшая безысходность. Которую (как в примере со скоростью света) мы принимаем как вечный закон, с которым надо смириться — и радоваться тому, что в этих рамках все-таки реализуемо. Что отдельные фактики, что всеобщий принцип, — это все та же эмпирия.
Конструктивная критика (и собственно наука) возможна лишь с позиция иной реальности, которая не где-то в пучинах абстракций — но здесь и сейчас, постоянно перед глазами. Нет смысла обсуждать, как оно есть, пока мы не догадались, как надо. Действие само по себе — чистая абстракция, эмпирический факт. Осмысливать его придется в контексте деятельности. Причем не просто принимая или отвергая — а усматривая в синкретизме непосредственной данности пережитки прошлого и крупицы будущего — в русле нашей сегодняшней истории.
Например, разоблачение хищнического разграбления природных ресурсов и беззастенчивого подсматривания за частной жизнью миллионов людей при разработке систем искусственного интеллекта натыкается на веское возражение: грязные технологии — необходимый этап в поиске более продвинутых решений, и технический прогресс так или иначе облагораживает обыденную жизнь; с другой стороны, когда ребенок осваивает достижения цивилизации, он впитывает все, с чем приходится сталкиваться по мере взросления — наблюдает за другими людьми и перерабатывает опыт. Так что вопрос не в том, что и как мы делаем, — а в том, чем мы хотим стать. Чистка авгиевых конюшен — не то же самое, что разрушительное цунами; атомная бомба как гарант возможности изменить общественный строй, сделать шаг к свободе, — противостоит атомному оружию на страже грабительских порядков; воспитание творческой личности — отличается от воспитания раба, производства рабочей силы или пушечного мяса. Точно так же, искусственный интеллект как полноправный участник общественного производства, возможность новых граней общения, еще одна плоть для свободного от природности разума, — перспектива более радужная, чем интеллектуальное рабство, вырождение компьютеризованных масс в тупое орудие властей.
* * *
Традиционно — мужик должен быть решителен и уверен в себе; всяческие колебания да сомнения — бабская слабость. Поэтому трудно мужикам с женщинами: хочется побыстрей принять решение — и дальше тупо следовать намеченным курсом. Разумеется, мужики считают, что они правильные, — а дамочек надо направлять на истинный путь железной рукой, раз уж они сами себя направлять не умеют. Одно из субъективных оправданий общественного неравенства.
Но логика не существует сама по себе, в отрыве от человеческой деятельности: что вполне уместно в одном контексте — оказывается бессмысленным в другом. Когда некто подчиняет себя собственному (пусть даже очень свободному) выбору — он тут же перестает быть разумным существом и становится простым орудием (пусть даже в собственных руках). И чем больше такой орудийности — тем труднее свободным людям, способным быстро переходить от одних решений к другим, произвольно менять систему отсчета (поскольку разум ни от чего не зависит — в том числе и от системы отсчета).
Возможно, женская логика в классовом мире играет роль своего рода ограничителя мужской ограниченности — чтобы человечество в целом таки могло сохранять искорку разумности. Чтобы лишний раз подчеркнуть: навязывание чьей угодно воли другим — это классовое насилие. Независимо от как угодно понимаемой правильности.
В собственно логическом плане, бесконечные колебания и неумение выбирать — явное указание на неуместность самой идеи выбора на каком-то уровне нашей свободы.
* * *
Личность (помимо прочих сторон) обнаруживает себя как иерархия потребностей. На житейском уровне мы говорим о личных вкусах и пристрастиях, о предпочтительных способах действия и манерах. Когда же в разговор вступают теоретики — им непременно хочется выдать один рецепт на всех, и на все времена. Принцип иерархичности принимают почти все — но иерархия в академических кругах сильно смахивает на библиотечный рубрикатор: формальная конструкция, отражающая какие-то обывательские установки — но в целом весьма условная и мало пригодная даже для поиска по каталогу. В основание этого карточного домика кладут якобы первичные "витальные" потребности, про которые известно только, что они "обеспечивают выживание" — но чье? Личность — движение духа, и она по-любому бессмертна, как исторически имевшее место общественное отношение. Из-за ширмочки выглядывает примитивное отождествление человека с биологической особью, рабом которой, по мнению больших ученых, должен стать разум. То есть, не тело мы используем для достижения разумных целей — а наоборот, наши цели подгоняем под нужды физиологии, ублажаем выданную нам на содержание зверушку. Если такое в какой-то мере логично по отношению к домашним питомцам, заботу о которых мы сознательно берем на себя, — то совершенно странно выглядит вынужденная необходимость реагировать на прихоти организма, навязанного нам решением властей: пусть бы сами власти и обеспечивали каждый экземпляр всем, что ему положено! Это не наша потребность — не компонент личности. Собственно человеческие потребности возникают не в отношении к вещам, а в отношении людей друг к другу — и здесь тела могут лишь представлять нечто духовное, обозначать его, обслуживать общение. Называть потребностями чисто вещную зависимость или порядок метаболизма — было бы неправильно.
Над базовыми (биологическими) потребностями надстраивают всякого рода вторичные, социально опосредованные. Тут уже — у кого на что хватит фантазии. Но с фантазией худо — и добавляют лишь один-два этажа, чтобы спорить потом, на каком из них расположить чье-то терминологическое новшество. Однако и здесь вместо человеческих отношений обсуждают лишь техническую необходимость, организацию производства — то есть, опять-таки, отношения между вещами; отличие лишь в том, что предстоит "обеспечивать выживание" технологий и социальных структур, а не биологических особей. На это указывают и типовые схемы классификаций: по сферам деятельности, по объекту или субъекту деятельности, по функциональной роли и т. д. Это не про потребности, а про их возможные проявления, способы упорядочивать вещи и отношения к вещам.
Традиционная беда формальной науки — вера в неизменность мира, вечность его (невесть кем данных) законов, которые можно лишь открывать — но (упаси бог!) не устанавливать самим. Вот и придумывают всевозможные классификации потребностей, выдавая это за (вечную и неизменную) "природу человека". Однако человек — принципиально неприродное существо, и его задача как раз и состоит в том, чтобы менять природу, на любом из ее уровней. Если есть какая-то классификация — первый вопрос: когда и где это работает? — что надо поменять, чтобы работало по-другому? Постоянная забота о границах применимости — отличительная черта настоящей науки, в отличие от идеологических спекуляций в целях промывания мозгов. Но суть человека не в структурах и системах — она в умении сознательно (то есть, намеренно и в разумных пределах) видоизменять структуры и системы, не любопытствовать, что получится, — а добиваться желательного результата. Для этого и нужны потребности.
Личность не сводится к перетасовке уже известного, комбинации рубрик; ее примета — способность отойти от привычек и стандартов, перекроить мир под себя — сначала в воображении, а потом и на самом деле, в деятельности. Полученные таким образом индивидуальности — воплощения личности, ее вещные представления. Свободный (не загнанный в рубрики классового мира) человек может менять как взаимосвязь потребностей (обращение иерархии), так и материальную базу духовности, — переходить от одной индивидуализации к другой.
Если обществу нужны личности, а не просто работники, воспитание потребностей не сводится к подведению их под имеющиеся рубрики и ограничению всяческого нестандарта. Не правила — а возможности; не цивилизованность — а культурность; не освоение — а творчество; не интеллект — а разум. Совместность деятельности, широчайшее сотрудничество и никакого соперничества — чтобы не ждать, куда кривая вывезет, а следовать потребностям — и перерастать их.
* * *
Об одном и том же можно говорить по-разному. Искусство, наука, философия — разные уровни рефлексии, одинаково необходимые для всестороннего приобщения. На любом языке — все та же суть. Когда юнгианцы начинают трактовать мифы на психоаналитический манер — это их особая манера, в которой вполне возможно отыскать какую-то правду. Но можно усмотреть и заблуждения, и полный бред... Важно не как они говорят, а о чем. Однако сами эти "ученые" убеждены, что именно их интерпретации верны, что только так обнаруживает себя сама по себе сущая истина; фактически, они подменяют предмет способами говорить о предмете — а это уже совсем другой предмет! Чисто логическая ошибка, характерная и для современной математики.
Разум не в том, чтобы говорить о разуме. Любовь не в разговорах о любви. Ни одна из форм рефлексии не способна охватить все — как любые тела есть лишь частичное воплощение духа. Да, иногда полезно посмотреть на себя со стороны — но еще полезнее смотреть на себя со всех возможных и невозможных сторон.
* * *
Свобода от не противоположна свободе для — это разные стороны одного и того же: одно переводится в другое. Однако само различение "отрицательной" и "положительной" свободы — явление классовое; общество без классов, скорее всего, вообще не нуждается в идее свободы.
* * *
Электрон и фотон — ведут себя то как частицы, то как поля. Точно так же, дух может становиться материальным, и наоборот. Например, совокупность отношений между людьми идеальна, если сопоставлять ее с природными вещами, — но она образует некоторое общественное тело в отношении к духовной культуре; такие тела ведут себя подобно всей остальной природе, становятся "природой человека". Аналогично, личность духовна по своей сути — но в сопоставлении двух личностей мы может говорить о них как о взаимодействующих телах; только в любви возникает интерференция, и одну личность уже нельзя внешне противопоставить другой.
Конечно, двойственность частиц и полей говорит лишь о том, что сами понятия частицы и поле в каком-то контексте неуместны; физику таких явлений стоило бы формулировать на другом языке. Различие природы и духа, объективного и субъективного, — относительно; но эта относительность говорит не о том, что можно по-разному выставлять границы (выбирать разные системы отсчета), а о том, что переход от одного представления к другому возможен лишь в силу наличия уровня, на котором категории объекта и субъекта уже неприменимы — и надо искать более разумные схемы.
* * *
Идеи не в терминологии &mdash они вопреки ей. Можно изобретать новые названия &mdash но можно и употреблять ходовые клише, где удобно по контексту. В любом случае читателю придется догадываться, что имелось в виду. Разумеется, языковая интуиция &mdash понятие классовое. Но достаточно разумный читатель не перепутает; неразумный (классово ангажированный) &mdash перепутает как ни уточняй.
* * *
Поскольку любая иерархия допускает очень разные обращения, было бы наивностью (или шарлатанством) составлять полный перечень имеющихся вариантов чего бы то ни было: все зависит от поставленных задач. Эмпирические перечисления валят случайности в одну кучу — и это удобно власть предержащим, поскольку позволяет выдать одно за другое, легко подменяя слова, жонглируя неопределенностями (само слово "классификация" — уже намекает на классовую суть). Чуточку больше серьезности — пытаться связать одно с другим и установить какую-нибудь преемственность. Но и здесь легко впасть в эмпирию, произвольно выбирая принцип группировки; когда речь об обществе и личности — это классовый произвол. Логически последовательный (но не всегда приемлемый по эстетическим или этическим соображениям) вариант — исходить из единства мира, что в данном случае означает допустимость различных критериев — но при любом выборе развитие движется от первичного синкретизма к аналитической стадии — а от нее к синтезу. Однако вовсе не обязательно отвлекаться на развернутые обоснования при работе с каким угодно предметом: достаточно иметь перед собой историческую перспективу, понимать, куда мы в итоге собираемся прийти; поскольку классовая эмпирия намеренно закрывает перспективы, пытается сохранить господство верхов, — любые попытки устранить концептуальные барьеры логически оправданны. Буржуазная пропаганда умеет создавать видимость, иллюзию прогресса — но на то и разум, чтобы отличить мечту от подделки.
* * *
Человек подобен миру. Мир как самовоспроизводящееся целое обозначают категорией субстанция — и здесь соединены две стороны воспроизводства: то, что воспроизводится, называют материей; само воспроизводство есть отношение мира к себе (ибо ничего другого нет!), и потому уместно говорить о рефлексии — возвратности (а вовсе не "размышлении", к чему обычно сводят дело буржуазные философы).
Человеческая деятельность — лишь один из уровней всеобщей рефлексии; его характерная особенность — универсальность, включение всех сторон мира (а значит, и рефлексии вообще) в общественно-историческую практику; тем самым как раз и устанавливается полное "совпадение" деятельности с движением мира в целом. Однако если мы интересуемся воспроизводством субъекта — нам придется представить его субстанциональность как единство материи и рефлексии в узком смысле слова — как материальное и духовное производство. В этом контексте важно, что человек не просто так переделывает природу — он воспроизводит себя как разумное существо, и без этого главного мотива любое производство бессмысленно. В частности, революция не просто передел имущества — это установление иного отношения человека к себе, возможность в большей степени чувствовать себя человеком; без этой духовной составляющей — революция вырождается в банальную смену власти, государственный переворот, политическую игру.
Духовное производство — проекция воспроизводства мира на внутренний мир субъекта, строение которого воспроизводит строение построенного людьми мира (культуры). Но "внутри" — вовсе не значит физиологически или психологически: у человека, помимо органического тела есть еще и неорганическое, без чего он не мог бы существовать в качестве носителя культуры; здесь своего рода обратная проекция: движения духа "объективируются", становятся движениями материи вообще. Как и в природе (живой или неживой), различие материального и идеального относительно — и одно переходит в другое при обращении иерархии.
На начальных этапах развития сознания материальное производство синкретически переплетено с духовным — они даже не разделены еще как две стороны целого. Только внешнее разделение общественного субъекта на противопоставленные друг другу группы приводит к внутреннему сопоставлению действия и способа действия — проекция классовых отношений. В человеке сталкиваются "мое" и "не-мое", "хочу" и "надо". Сознание противостоит самосознанию: я контролирую "природное" — но "общество" предписываем мне, что и как я должен делать; я уже понимаю, что я делаю и как я это делаю, — но моя внутренняя сложность не намеренна, она приходит извне, отражает классовые структуры. Только там, где человек свободен организовать деятельность по своему усмотрению, — внешняя рефлексия переходит во внутреннюю, а работа (преобразование объекта в продукт) становится творческой — трудом.
Творчество и духовное производство — здесь синонимы. Когда творчество перестает быть достоянием единичного субъекта и врастает в практику — сознание и самосознание уже неотделимы друг от друга; способность действовать от своего лица как от лица всех и общественное принимать как личное — это и есть разум, субстанция субъекта.
Однако до свободного, творческого труда человечеству еще только предстоит дорасти. Классовое общество — лишь предыстория, создание предпосылок разумности. Здесь нет универсальности — а есть всеобщее разделение труда, при котором правящие круги узурпируют рефлексию, отчуждают ее от трудящихся масс. Труд рабов остается творческим лишь в той мере, в которой в нем отражена историческая необходимость, направленность прогресса, — но сами работники, как правило, этого не осознают. При этом и хозяева утрачивают способность творчества — поручают рефлексию специально подготовленному персоналу; точно так же, насильственно присваивая плоды общего труда, собственник не в состоянии самостоятельно ими распорядиться — и вынужден отдавать управление производством (и даже организацию потребления) на откуп наемным управляющим, привлекать агентов и субподрядчиков. Однако "профессиональная" рефлексия — все тот же рабский труд, хотя якобы творческие работники этого не осознают, кичатся мнимой свободой и презирают тех, кому творить запрещено. Общественное расслоение, когда одни рабы правят другими рабами, — прячет, отдаляет господ от трудовых масс, обезличивая систему ограбления, придавая ей видимость естественного порядка или божественного установления.
Классовые формы рефлексии возникают не случайно: они лишь гипертрофируют и жестко закрепляют какие-то из черт рефлексии как таковой — представляют универсальное неуниверсальным образом. Прежде всего, речь о противопоставлении уровней синкретической и аналитической рефлексии — что в условиях всеобщего разделения труда приобретает характер классовых различий. В разумно организованной деятельности все уровни рефлексии присутствуют в равной степени, как стороны одного и того же. Синкретическая рефлексия представляет формы деятельности продуктами этой деятельности; аналитическая рефлексия использует продукты одной деятельности для представления форм другой; наконец, на уровне синтеза аналитически выделенные формы (схемы) используются для (ре)организации деятельности в ее собственных формах. Будучи отчужденными друг от друга, эти уровни утрачивают преемственность и взаимопереходы — они одинаково даны в "опыте" как случайно набранные эмпирические абстракции, которые буржуазная философия может только перечислять — но не в силах ничего сказать об их сути и происхождении.
В рамках иерархического подхода мы, как минимум, уже способны обнаружить существенные различия между формами рефлексии: вкусы, склонности, привычки, "здравый смысл", интуиция (включая классовое чутье) — явления синкретические; искусство, наука и философия — аналитические формы; эстетика, логика и этика — синтетические образования. Хоть какая-то определенность.
Искусство, наука и философия как разные стороны аналитической рефлексии — различаются характером продукта: искусство утверждает возможность представлять формы любой конкретной деятельности продуктами любой другой; напротив, наука вырабатывает абстрактные формы, не соотносимые непосредственно ни с какой деятельностью; философия превращает абстракции в универсальные категории, что позволяет строить любую деятельность по образу и подобию любой другой. Разумеется, это не единственная возможность развернуть иерархию: когда на практике различие искусства, науки и философии будет снято, более полезными окажутся какие-то иные категоризации.
В классовом обществе доступ к аналитической рефлексии открыт далеко не для всех: формальных запретов может и не быть — но экономика и организация образования навязывают населению весьма жесткие рамки — как традицию, субъективную предрасположенность, талант, склонность и т. д.
Но синкретическая рефлексия как сторона рефлексии в целом — не отделена от аналитический и синтетической; их разлучают не очень разумные люди. Не может одно существовать без другого: если растащить разные типы рефлексии по разным социальным группам — классовые барьеры придется снимать в динамике, пространственно разделенное соединять во времени. Вместо уровней целого — этапы развития. Классовая история рефлексии превращает привычки и обычаи в "общепринятые" правила и нормы — которые влияют на все стороны быта, вызывая к жизни новые обыкновения; и так повторяется снова и снова. В итоге оказывается, что все уровни рефлексии так или иначе представлены в синкретизме — но точно так же там представлены и классовые размежевания, что приводит к хаосу и эклектике, когда разнородные элементы из разных эпох уживаются в сознании все сразу, делая одинаково оправданным прямо противоположное. Синкретизм обывательского сознания позволяет властям легко манипулировать настроениями толпы, не допуская духовного единства.
Как бы то ни было, иерархия форм синкретического сознания оказывается подобна иерархии рефлексии в целом — что позволяет развертывать иерархию синкретизма по аналогии (разумеется, памятуя об условности и ограниченности любых аналогий).
Первая, наиболее синкретичная форма — осознание быта как быта, рефлексия по поводу самого существования общества и общественного характера человеческих отношений. На этом уровне человек ведет себя "как все": не потому, что усматривает в этом особый смысл, — а просто потому, что так "принято". Субъективно, это очень удобно: никаких сомнений, никакой ответственности, — все получается само собой. Другое дело, что и субъективности в этом практически нет: человек подобен животному — или растению — или неодушевленной вещи, которая движется не так как в природе лишь поскольку это движение происходит в особой, искусственной среде. Природу заменили "второй природой", культурой — но человек остается лишь частью всего этого, а вовсе не проектировщиком и творцом. Отсюда типично обывательские суждения о "природе человека"; заметим, что эта природа все-таки чувствуется как противопоставленная неокультуренной материи, — и самый узколобый филистер предпочитает жить "по-человечески", со всеми удобствами, — а вовсе не в грязных пещерах, питаясь всякой гадостью. Ради сохранения материального и душевного комфорта — такие готовы убивать.
На следующем уровне человек сопоставлен уже не с обществом как средой обитания, а с иерархией аналитических культурных форм (право, религия, мораль). Теперь он осознает не только наличие какой-то определенности — но и присутствие общественных структур, эту определенность устанавливающих и поддерживающих. Синкретическая рефлексия не может отличить одно от другого — и просто принимает что-то на веру, ищет справедливости или осуждает безнравственность. Для обывателя все это практически одно и то же. Различить искусство науку и философию он также не в состоянии — и запросто принимает за искусство коммерческий китч, наукообразие считает научностью, а досужий треп — философией.
Точно так же, массы воспитывают в духе классовой эстетики, логики или этики — подразумевая безусловное подчинение вкусов, здравого смысла, индивидуальных и групповых предрасположенностей интересам сохранения классовой иерархии. Поскольку самостоятельная выработка синтетических принципов в массах сильно затруднена из-за отчуждения аналитической рефлексии, приходится заимствовать и подражать, некритически перенимать "высокие" образцы. Буржуазная пропаганда рекламирует такую некритичность — а педагогика самой постановкой дела прививает отвращение к осмысленности, так что низы не только прозябают в невежестве, но и активно отбиваются от попыток просвещения (чаще всего принимающих уродливо классовые формы). Бумеранг возвращается: представители верхов проникаются той же самой обывательской моралью, точно так же мистифицируют право и религию, скатываются в вульгарность, пошлость, невзыскательность. Так складывается единая, "общечеловеческая" иерархия рефлексии, чаще всего не поднимающейся выше синкретизма.
Тем не менее, на высшем уровне синкретической рефлексии есть намек на переход к аналитическому уровню. Связано это с переходом от индивидуального сознания к групповому: абстрактные общественные формы здесь представлены вполне определенными сообществами — которые противопоставлены друг другу и обществу в целом. Родовое, семейственное, сословное, классовое, этническое, религиозное сознание заменяют обывателю представления об общечеловеческом единстве и ставят членов "своей" группировки в привилегированное положение по отношению ко всем другим. Внутри коллектива действуют все те же синкретические связи — но можно смотреть на других свысока и тем самым играть для них роль законодателя, а это вплотную подводит к аналитической рефлексии как деятельности — и свертыванию ее во внутреннем строении субъекта.
* * *
Всякий продукт деятельности (и культура в целом) — единство объекта и субъекта, природы и духа. Что касается вещей — вроде бы, интуитивно ясно: тут и пощупать можно (хотя бы в переносном смысле), и к делу приспособить (а в классовом обществе — обменять на другую вещь). Что при этом происходит с духом? Допустим, сложили мы кем-то произведенные кирпичи в какую-нибудь красоту или полезность; куда делся дух кирпичника (или конструктора автоматизированной линии, если делаем не совсем по старинке)? Вроде бы, на выходе совсем другая вещь — и дух ее творца на первом плане. Если же обменять — передается дух вместе с вещью или нет? Вроде бы, по смыслу, не может он содержаться в вещи — а представляет общественное отношение, которое сразу для всех, и говорить о передаче от одного другому было бы странно. Наконец, если начальник приказал подчиненному что-то сделать — исполнитель действует уже не как субъект деятельности, а лишь в качестве орудия, и надо усматривать в продукте начальственный дух... В общем, сплошная путаница.
Источник проблем — классовые пережитки в сознании. Не умеем мы относиться к миру универсально, стараемся расставить все по полочкам: не в данном конкретном отношении — а вообще. Но даже если мы определились с тем, что собираемся расставлять — и полочки уже заготовлены, — есть варианты: по отношению к одному выглядит не так же как для другого.
Человечество состоит из людей. А значит, дух как всеобщий субъект обязательно оказывается единством единичных субъектов, личностей. Не может он существовать как-то иначе. Следовательно, и в продуктах деятельности духовная сторона проявляется и как отношение к обществу в целом — и как отношение к каждому единичному субъекту. Если говорить о всеобщей духовности, о месте в культуре, — все это присутствует в (отношениях по поводу) вещи независимо от способа употребления (но, разумеется, не вне потребления как такового). Однако индивидуализированный дух от контекста очень даже зависит; значит, нужно уметь переходить от одного контекста к другому, менять "систему отсчета", — строить разные проекции общего на единичности. Продукт в целом оказывается тогда иерархией продуктов, единством представлений на разных уровнях культуры — с разных точек зрения. Например, если нечто производится как товар, собственность есть лишь одна из характеристик вещи, а история производства снята в (меновой) стоимости; процесс купли-продажи можно при этом трактовать как обращение иерархии (движение) вещи, когда ее разные характеристики по-разному соотносятся "внутри" нее.
Таким образом, иерархичность способа производства и отвечающая ее иерархия человеческого духа представлены вещами, продуктами деятельности. Взятая в одном отношении, вещь не утрачивает всего, что связывает ее с другими сферами культуры — и можно развернуть иерархию, восстанавливая самые опосредованные взаимовлияния.
Мы знаем что всякая вещь из чего-то состоит (это называется ее материалом) — и что соединено все это не как попало, а вполне определенным образом (который называется формой). Ни материал, ни форма ничего не говорят о вещи сами по себе: они важны лишь в единстве — которое мы называем содержанием (или "субстанцией"); сами по себе (вне деятельности) вещи бессодержательны — и только в качестве продуктов они "расщеплены" на материал (проекция объекта) и форму (проекция субъекта). Форма, таким образом, есть идеальность вещи — в противоположность ее материальности (объективности).
Поскольку форма — сугубо идеальное образование, ее не всегда легко усмотреть, осознать, отличить от материала и содержания. Здесь также все зависит от "калибровки", от обращения иерархии; например, муж спрашивает жену: Какой пылесос будем покупать? — а та сразу же отвечает: Красный! Различие в подходах налицо: для него форма явлена через технические характеристики — а для нее интереснее внешний вид. Та же иерархия развернутая в субъекте — это его индивидуальность.
Однако усматриваем мы лишь те формы, которые укоренились в культуре — и представлены какими-то вещами. Идеальность нельзя уловить "мысленным взором" или "медитацией" — узнаем мы о ней только через вещи, через их культурное применение — которое, собственно, и становится в индивидуальном сознании обозначением устойчивой культурной связи, общественной формы. Такая связь уже не субъективна по отношению к единичному субъекту: там, где человек не участвует в организации деятельности и общения — их формы для него становится всего лишь предпосылкой труда, данными обстоятельствами, частью природы (природой вещи как таковой).
Но вещи становятся элементами материальной культуры только наряду с отношениями людей по поводу вещей; если содержательность продукта отходит на второй план, такие отношения также становятся вещными, как бы природными. Это позволяет сделать воспроизводство общественных отношений особой деятельностью — и тогда в этих отношениях также различаются уровни материала, формы и содержания. В условиях всеобщего разделения труда материальное производство противостоит духовному — и нарушенные общественные связи не дают развертывать иерархию вещи различными способами; так возникают парадоксы с (якобы) исчезновением духа создателя при переработке или обмене продуктов труда. Внутренняя сложность вещи представлена тогда ее историей, начиная от языкового клише second-hand — вплоть до эволюции каменных рубил или смены мод. Разумность человека обнаруживается лишь исторически, и личность — пока не в себе.
* * *
Для буржуазных психологов все в одной куче: стыд, нравственность, вина, влечение и симпатия, долг и вера... Все это лишь "эмоции" — родственные животным ощущениям и позывам. Ну, может быть, чуток сложнее — без принципиальных отличий.
В какой-то мере они правы: одну животность и в самом деле не отличить от другой. Но мы-то люди! И у нас есть кое-что повыше психики — разум, дух. Сами по себе движения наших тел — ничем не примечательны; но способ их организации уже не животный, и причины движений надо искать в других местах (если вообще возможно говорить о пространстве по отношению к духу). Вот эти способы мы и изучаем в психологии человека — давая им (по возможности) другие имена: ощущения от тел — восприятия от общества; влечения от тел — мотивы от общества; психические процессы становятся переживаниями — внутренней жизнью, психической деятельностью (то есть, сознательной работой над собой). Всякий общественный процесс воспроизводится внутри субъекта как специфически человеческое душевное движение: общественно есть вина, унижение, гордость — у личности есть гнет вины, переживание униженности, чувство гордости; это не одно и то же! Подмена собственно психологических явлений их общественными прототипами — элемент буржуазной пропаганды, уход от сознательного выстраивания экономических и общественных связей в туман "природы человека" (под которой лишь избранные вправе начальство понимать что-то для себя). Чаще всего, это на вина, а беда: вроде бы честные исследователи ведется на филистерские пошлости — и забывают о науке. Что они при этом переживают — не нам судить.
* * *
Земная гравитация — метафора вертикали. Идея складывается в глубокой древности — и немало способствует утверждению классовых структур. Одни наверху, другие внизу, — что может быть естественнее? Потому начинаем понемногу расслаиваться: кто-то залезет выше других и смотрит на чернь свысока; но все под небом ходим... Чтобы не роптали которые на самом низу — изобрести подземное царство, ад: над его обитателями всякий живой может вдоволь посамоутверждаться...
Выход человечества в космос — открывает мир без верха и низа; когда нам угодно, мы можем произвольно расставлять акценты. Это в корне меняет менталитет: оказывается, классовые отношения — лишь свидетельство нашей ограниченности, вековой скученности в замкнутом пространстве, и можно выйти в культурную бесконечность, устраняя все и всякие вертикали, требуя свободы и многомерности. Может быть, уже пора?
* * *
Как известно, никакую работу нельзя завершить — ее можно только прекратить. Задуманную книгу — не дописать. Потому что заброшенные черновики вдруг всплывают в самых неожиданных местах, каракули на полях — почему-то всегда в тему, и у каждой мысли обширная компания столь же привлекательных дум. Напрасно ждать завершенности от науки, совершенства в искусстве; а производство гаек на конвейере — удел роботов. Надо остановиться, поставить точку — назначить предел собственной беспредельности, чтобы она не подчинила себе разум. Для этого нам и дана конечность наших воплощений: телесная смертность — залог духовного бессмертия. Всегда есть повод остановиться, перевести дух — из одного тела в другое, от одной идеальности к другой.
|