Прорастание
* * *
Воспитание не сводится к обучению. И наоборот. С этого надо начинать. Потому что иначе просто невозможно поставить вопрос о единстве. В классовом обществе всякое единство неизбежно приобретает форму противоречия, борьбы противоположностей. Гибель цивилизации устраняет эту дикость и создает условия для сотрудничества и взаимопомощи.
* * *
Энциклопедическое образование — ренессансная мечта. Однако все изучить и научиться всему невозможно. Буржуазная культура знает только одно решение: специализация. Это предполагает духовный застой, неспособность выйти за рамки классовой ограниченности. Стоит убрать барьеры, дать людям доступ ко всему богатству мировой культуры, — и они быстро выработают методы укрощения чрезмерного изобилия. Например, таким изменением собственной природы, которой позволит включиться в любое дело немедленно и быстро приобрести необходимую для этого квалификацию.
* * *
Если родители смотрят по телевизору всякую мерзость — у них нет морального права требовать, чтобы ребенок ее не смотрел. И дети это прекрасно чувствуют.
Компьютерные игры — забава для дебилов. Но как ребенку в дебильной семье избежать нездоровой зависимости? Никакие защиты не помогут: технические навороты всегда можно обойти. Ребенок просто отдаст телефон кому-нибудь из знакомых, кто умеет рутить, — потом откроет себе все права, и закроет телефон от родителей.
Настоящее лечение только одно: найти нечто, способное увлечь, пристрастить к творчеству. Тогда никакая наркота не нужна. Однако речь о человеческих, свободных увлечениях, а не включении в учебную группу или кружок по интересам. Без подчинения внешней силе — но и без стремления подчинить себе. Сразу за борт — спорт, экстремальные развлечения, трюкачество; это для животных стад. Но что тогда? Проблема в том, что классовое общество и не заинтересовано в поисках ответа. А гениальные догадки легко купить — и под сукно.
* * *
В отличие от животного, человек видит мир не таким, каким он ему явлен, а тем, чем миру следует быть в отношении к разуму. Поэтому голый натурализм — не для людей. Тела существуют, и это знают маленькие дети. Хотя бы потому, что их с первых писков начинают обучать управлению этим сложным и хлопотным хозяйством. Но нагота в искусстве — не имеет с этим ничего общего, и даже откровенная эротика может иметь в виду вовсе не тело, а особенности его общественного бытия.
* * *
Ложная скромность, когда при виде наготы отводят взгляд, — обнаруживает нескромность, грязь помыслов. Для животного — телу единственное употребление. У человека разумного — бесконечность возможностей. Чистому духом ничего животного в голову не придет. Можно смотреть на низкое — но видеть возвышенное.
* * *
Чем уже круг образовательных технологий — тем меньше шансов для полноценного воспитания. Замкнуться внутри группы — перекрыть пути к человеческой универсальности. Школьный класс, учебная группа в университете — это уже ограничение, поскольку предполагается единый режим работы и единый порядок сертификации. Тем более затруднено воспитание разумности в изолированных сообществах (интернаты, элитные школы, персональные программы, педагогические эксперименты). Компенсировать узость среды отчасти возможно прозрачностью границ, регулярными вылазками вовне — и наездами гостей (как физически, так и в переносном смысле). Но такое общение само по себе формально, регламентировано, — и потому не объединяет, а подчеркивает противопоставление. Вроде приглашения институток на кадетские балы.
Традиционные формы обучения, требующие личных контактов, должны будут уступить место непрямым методам, исключающим образование учебных коллективов: каждый сам выбирает, с кем и в какой мере общаться, насколько в каком темпе углубляться в предмет — и как практически применить полученные навыки.
Значит ли это, что человека следует изолировать от всех, кто следует тем же курсом, заставить трудиться в одиночку? Ничуть. Если кому-то живое общение помогает (или морально поддерживает) — почему бы не задействовать и этот инструмент? Важно не ограничиваться чем-то одним, использовать все. Люди разные. Каждый ждет от образования чего-то своего — и это вовсе не обязательно знание: иногда опыт общения (по какому угодно поводу) намного нужнее — и можно, в частности, совместить это с учебой. Неформальность такого общения по-своему поучительна: мы умеем быть свободными даже от свободы!
* * *
Говорят: школа учит мыслить. В корне неправильно. Можно подумать, что человек ничем кроме мысли не занимается.
Школа — этап формирования человека. И она должна учить не только мыслить, но и чувствовать разумно, и отвечать за свои поступки. Школа учит совместному труду.
Но лучше, когда всему этому учит общество в целом, а не школа.
* * *
Пока дети живут в семьях, пока у них есть дом, — в культуре будут серьезные ограничения на все по-настоящему человеческое. Например, приходится устраивать детские площадки рядом с домом — а это шум, вторжение во внутреннее пространство других людей.
Еще проблема: дети копируют родителей. Даже если наоборот. Привыкают иметь перед глазами случайный образец — и не умеют соединить преимущества многих.
Но и в массовых питомниках та же проблема остается, хотя и на другом уровне: разные школы начинают играть роль семьи — требуется как-то организовать ротацию, ликвидировать привязанность (зависимость, несвободу). Как? Только путем вовлечения детей в общественное производство, решение практических, а не "учебно-воспитательных" задач.
Когда дети будут воспитываться отдельно от семей, и вообще не будут знать биологических родителей, им придется дать частную жизнь с самого раннего возраста. Воспитать уважение к этой высочайшей духовной ценности. У таких детей не возникнет идея и потребность семьи как особо оформленной единицы общества — семья отмирает окончательно и бесповоротно.
* * *
Там, где образованием и воспитанием занимается государство, оно готовит не полноценную личность, а гражданина, представителя класса или сословия, — или просто рабочие руки (или голову, или пушечное мясо). Семейное воспитание готовит члена семьи, продолжателя традиций — то есть, зверушку, особь определенного вида. Лишь общество в целом ставит каждого наравне с собой, делает всеобщим — субъектом.
* * *
Преподавание в школах силовых единоборств или командных видов спорта столь же преступно, как и уроки религии. Физическое развитие обязательно, и навыки командной работы тоже, — но вовсе не обязательно облекать это в форму соревнования, исключить малейшую выгоду от победы (или просто успешного решения поставленной задачи). Построить несоревновательную физическую культуру — это разумно.
* * *
Амеба просто делится — и продукты деления безразличны друг другу. Растения развиваются по встроенной в геном программе — им все равно куда упадут семена. Черепахе или крокодилу — достаточно отложить яйца. Только у теплокровных, у птиц и высших животных появляется подобие связи поколений, когда родители (чаще всего мать; иногда стадо в целом) помогают малышу встать на ноги, освоиться в мире. Связано это, по всей вероятности, с преждевременностью рождения, отделения от материнского организма, — и чем выше вид на древе эволюции, тем значительнее такое опережение. У теплокровных факт появления живого организма, не связанного с организмом матери, не означает действительного рождения: с точки зрения вида, это всего лишь этап вынашивания — только не внутри, а снаружи. Здесь уже не все определяется геномом, и развитие в полноценный организм требует развитой внешней среды. Тем не менее, мать и детеныши остаются физиологически (метаболически) связанными — прежде всего на уровне выкармливания. Только после достижения детским организмом определенного уровня поведенческой целостности он может быть включен в сообщество на правах самостоятельного члена, и связь с матерью окончательно обрывается.
Первобытный человек приспосабливает животные формы к новым, социальным условиям — их смысл радикально меняется. Однако поначалу действует все тот же биологический закон: сроки родовой связи зависят от объема необходимой социализации, превращения ребенка в полноправного члена сообщества. Отсюда историческая тенденция удлинения детства. Поскольку классовое общество еще не вполне разумно, животные черты сохраняются в системе образования и воспитания до наших дней. Однако рост общественного характера производства в целом влияет и на воспроизводство субъекта: все чаще в качестве "родителей" выступают особые общественные органы. Созревание человека связано теперь с прохождением формальных этапов социализации, за которые отвечают соответствующие уровни коллективного субъекта. Лишь по завершении общеобразовательной программы человек получает право самостоятельно распоряжаться собой — и воспитывать других.
Внедрение системы непрерывного всевозрастного образования, когда формального завершения уже не предполагается, фактически раздвигает сроки "вынашивания" (общественного созревания) субъекта на всю жизнь — а роль родительского организма играет общество в целом. Биология играет в этом процессе все более скромную роль, а на первый план выходит развитие неорганического тела — внешнего инструментария для взаимодействия с миром и обществом. Когда управление телом в полном объеме доступно каждому — это качественный скачок, переход от животного размножения к индустрии воспроизводства разума.
* * *
Нет абстрактно лучшей системы образования. Все зависит от того, кем мы хотим видеть будущих людей. Рабов воспроизводят рабскими методами. Людей — человеческими.
* * *
В чем "самостоятельность" личности? Отделиться от других — это не свобода, а, скорее, наоборот, тюрьма собственных границ. Человек не просто рождается в обществе — он и есть это общество, в одном из единичных представлений, обращений иерархии. Эта единичность движется так, как ей свойственно, — и не так, как все другие. Отличие, прежде всего, в упорядочении вещей, явлений культуры. Поскольку обращение иерархии представлено элементом, оказавшимся на вершине, различия мы устанавливаем как различие вещей — при том что в глубине, на нижних уровнях сохранена вся культура целиком, и каждый охватывает (и влияет на) все стороны общественного бытия.
Ребенок в утробе матери столь же способен представлять личность (а значит, и общество в целом!), как (до)школьник, студент или глубокий старик. Эти градации — не от личности, а от способа включения тела в исторически сложившуюся культуру. Физиологически оставаясь частью матери — ребенок уже способен как-то вести себя, и это так уже на уровне поведения животных — а тем более в отношении общественного поведения. Но общественное поведение предполагает, что личность представлена не одной вещью, а совокупностью вещей (и общественных отношений). Еще до зачатия ребенка с ним связаны общественные представления — о нем думают, его чувствуют, с ним мечтают. Пока в культуре бытуют представления о связи детей и родителей, личность ребенка исходно встроена в личности родителей; точно так же, пока вынашивание и рождение опираются на женскую физиологию, еще не рожденный младенец есть часть личности матери — просто потому, что на вершине иерархии общее для них тело. Когда (на шестом-седьмом месяце беременности?) нервная система ребенка обособляется — остается иная телесная общность; как и у высших животных, после рождения эта телесная связь далеко не сразу распадается — и отсюда длительный период родительской (материнской) заботы о потомстве.
Но эти природные зависимости никоим образом не означают подчинения одной личности другой: даже представленный телами и психикой родителей, ребенок как личность — не сводится к этим телам, он вовлечен в иные общественные отношения, которые в конечном итоге отдаляют его от родителей (что иногда воспринимается болезненно, как конфликт поколений). Дети чаще всего не оправдывают родительских ожиданий — потому что их личность не только в родителях но и в других людях, у которых свои ожидания, и нельзя заранее предсказать, как это выстроится в личности, соединяющей все эти частные представления.
Личность становится собой только во взаимодействии с обществом в целом, по мере включения в общественной производство. При этом на вершину иерархии часто выходит не органическое тело (по документу), а способ участия в производстве, неорганические расширения — орудия и плоды труда. Это неорганическое тело также поначалу существует лишь в умах людей — как замысел, проект будущей личности; как только по этому проекту построено что-то материальное — оно может принять дух на себя, стать его носителем, — и возникает личность в узком смысле слова, как одно из ее воплощений.
Но личности не нужна "самостоятельность" — ей нужна свобода. Личность отнюдь не "сама" — она в отношениях людей; личность вовсе не "стоит" (и не "состоит") — она развивается, развертывает по-новому иерархию общества, и меняется вместе с ним, и меняет его, ставя перед фактом осуществленной возможности. Чем шире круг доступных связей, тем индивидуальнее движение духа, и тем ярче личность.
* * *
Как организовать обучение? Ответ очевиден: как производство! Всякая отрасль должна получить отражение в учебных программах — и всякое знание подкреплено практическими примерами. Скажете: программа не резиновая? Но кто сказал, что надо всем давать все, в одном и том же порядке? Не программы нужны, а ориентиры.
Производство тоже не аморфной массой. В каждой операции есть принципиальная основа — и есть полезные автоматизмы. Но если кому-то вздумается развернуть иерархию по-другому — пожалуйста! Будем все вместе расти.
* * *
Когда что-то общественно необходимо — оно произойдет независимо от того, кто именно примет (или не примет) в этом участие. Другое дело, что мне может быть интересно в этом поучаствовать, повернуть дело на свой манер, — и тогда никто не вправе отстранить меня от работы, отвергнуть мое видение задач и путей решения. Тогда и я как разумное существо не смогу противопоставить себя другим.
* * *
Уровни образования: знание → умение → мастерство.
Мастер умеет узнавать (в смысле разбираться в ситуации) — и знает, к чему приложить умения. Синтез, творчество.
* * *
Каждой книге свое время. Молодые читают Лонга или Апулея совсем не так, как зрелые и умудренные опытом; но, если на то пошло, и эллинистический роман связан с эпохой зрелой античности, временем подведения итогов...
* * *
Прислушиваться к наставлениям со стороны следует всерьез — но не надо относиться к ним слишком серьезно. Это всего лишь игра. Подготовка к настоящему. Иногда общество навязывает роли — тем хуже для него. Значит, придется что-то менять, чтобы освободить дух от несущественных форм.
* * *
Мы говорим о социализации, о врастании в культуру и культурном строительстве. Единство образования и воспитания — овладение собственной природой и своей субъектностью. В XVIII веке это называлось просвещением... Почему бы и сейчас не пустить словечко в оборот? Смущает оттенок наставничества: как будто свет уже есть, и надо лишь пролить его в еще не развитые души. На самом же деле — с каждым новым членом общества рождается его особое свечение, в чем-то, возможно, повторяющее прежние лучики — но и способное обогатить культуру в целом, хотя бы чуточку расширить область культурности, отвоевать что-нибудь у неразумной материи. Нет готового знания, или безусловной воспитанности. Научить можно лишь того, кто учит сам; воспитанники воспитывают воспитателей.
А просвещение... Хорошо, когда ему отзываются просветлением. Но и этого недостаточно: где-то придется выйти за рамки единичности и обратиться к духу вообще, к тому, что объединяет все разумные существа, а не просто пересчитывает их. Чтобы каждый стал равен обществу в целом, нес в себе всю культуру целиком. Потому что он и есть ее подлинный творец.
* * *
Животное: есть родители, будут дети...
Человек: есть предки, будут потомки...
Человека не изготавливают какие-то кустари — его производит общество в целом, как и любой другой продукт. Точно так же, предназначен человек не для чего-то конкретного, а для всеобщего, универсального опосредования отношений между вещами.
Нет фамилий — отсылок к роду или семье. Вместо имени — тысячи разных имен. Человек учится смотреть на себя с любых сторон, глазами мира в целом, — летать, а не ползти в колее.
* * *
Безусловное требование: никакой собственности. И тем более, никому не могут принадлежать идеи. Любые технологии, любые уровни рефлексии — для всех. Продукты духовного производства надо учиться тиражировать в любых масштабах, предоставлять каждому по запросу, немедленно. Принцип человеческого, разумного образования. Для этого требуются свои технологии — надо их развивать.
Требование переходной эпохи от капитализма к бесклассовому обществу — никаких тайн! Некоммерческий характер производства напрямую связан с общедоступностью технологий, со свободой их копирования и развития. Этим должно было заняться общество в целом, и в частности система обучения. Никакой цеховщины, никакого разделения труда — но широчайшее распределение.
СССР буржуи всего мира обвиняют в промышленном шпионаже. Мы обвиняем его в недостаточности этой работы — которую следовало положить в основу внешней экономической политики. Тем более, что советские разработки массово уплывали за рубеж (иногда вместе с разработчиками). Следовало поддерживать любые "пиратские" акции, во всем мире открыто продвигать режим информационной открытости. Советские эстрадники перепевали западных певцов — точно так же инженерам следовало брать у всех все, и дополнять своим.
* * *
Возможно ли воспитать гения?
Встречный вопрос: а нужно ли?
Гений — апофеоз специализации, идеальная машина для одной их бесчисленного множества общественно важных работ. Даже если принять во внимание разносторонние интересы большинства гениев — они вырастают из главного, подчинены ему. Нам же интересно жить в обществе универсально образованных людей, для которых любые предпочтения — лишь условность, временное явление, этап на пути к чему-то еще. Человеку будущего совершенство незачем — он и так вне конкуренции. Важнее ухватить общий принцип — а детали будем прорабатывать все вместе, — и это совершеннее любой гениальности, потому что общество в целом по определению умеет все!
* * *
Разумное обучение — не следование, а сознательное выстраивание себя, расстановка приоритетов на основании личного опыта и смысла общественной жизни. Чем раньше — тем лучше. Однако научить этому не может никто — можно лишь создавать для этого культурные условия, в которых просто неинтересно развиваться иначе. Общество подводит человека к его подлинной индивидуальности — а формировать ее он будет самостоятельно; только тогда возможен целенаправленный рост самосознания.
Чтобы перейти к такому типу социализации, взрослым надо не учить или воспитывать, не "совершенствовать" педагогику, — а менять мир, делать его удобнее для всех, включая детей.
* * *
Вероятно, в разумном обществе, где нет разделения труда, понятия обучение и воспитание окончательно потеряют смысл. Производство субъекта придется понимать как-то иначе, в других терминах — если, конечно, какие-то термины вдруг потребуются. В центре внимания не локальные "потоки" от одного к другому, а всеобщая связь. Даже если отдельные операции берут на себя единичные исполнители — они действуют от лица всех, и так себе это и представляют. Это похоже на то, как близнецы способны до некоторого предела разделять опыт друг друга; для нашего современника люди будущего — все на одно лицо, поскольку он не в состоянии постичь глубину различий.
Обществу важен продукт деятельности — а путей к нему сколько угодно. Если по каким-то причинам надо выяснить, кто именно принимал с чем-то участие (хотя такая постановка вопроса уже не вяжется с общественным характером производства), в отношении каждого условно обозначенного участника имеет смысл говорить об обучении — поскольку так или иначе требуется войти в курс дела, уяснить себе постановку задачи; однако границы между обучением и творчеством вообще нет, и это, скорее, одна из граней целого, чисто виртуальное образование.
* * *
Мы привыкли к существованию общенациональных стандартов образованности и систем обязательного обучения как одной из правовых основ государственности. Но так было не всегда: древнейшие общества опирались на синкретический опыт деятельности и возможность перенимать его непосредственно по ходу работы. Сам факт возможности упражнения как особой (учебной) деятельности — свидетельство достаточно высокого уровня развития производительных сил и зачатков общественного разделения труда. Игры животных — прототип, готовая форма, которую человек использует в практике сознательной деятельности; однако возможность такого использования не следует из биологии, а определяется строением экономики.
* * *
Выделение буржуазного образования в отдельную отрасль ведет к дальнейшей коммерциализации всех его уровней, и углубляет пропасть между общедоступным и "элитарным". Причем не только в смысле дороговизны и недоступности курсов, предназначенных для сильных мира сего, — но и в силу ненужности этой элитарщины большинству населения, у которого совершенно иной круг интересов. Так задачи классового образования смыкаются с классовым воспитанием, а одной из характерных задач капиталистической социализации становится воспроизводство духовного разобщения.
* * *
В цивилизованном обществе, ученик и учитель, воспитанник и наставник, — не партнеры, а конкуренты. Они могут глубоко уважать друг друга — но лишь в рамках рыночной корректности, соблюдения правил. В любом случае между ними страх. Поэтому профессиональное обучение и кастовое воспитание не предполагает свободы обмена опытом: скорее, речь идет об ограничении этой свободы, — отсюда нормативность как атрибут классовой социализации. Общение в пределах обязанности; остальное — табу, корпоративная тайна. Даже большие деньги — не всегда аргумент, потому что на весах может оказаться будущее, — а это весомый актив.
* * *
Когда мы говорим о необходимости универсального развития, не замкнутого в одной узкой области, — речь вовсе не о том, что нельзя посвятить всю жизнь любимому делу. Главное — чтобы эта внешняя избирательность не превратилась во внутреннюю ограниченность. Профессионализм как совершенное мастерство объективно требует концентрации внимания и сил; но это никоим образом не связано со специализацией: у любителей профессионализм встречается столь же часто, как и у профессионалов, — но это характер деятельности у них разный (как минимум, в силу различия мотивации), и это высвечивает разные грани мастерства. Поскольку же каждая деятельность внутренне бесконечна, связана с преобразованием мира в целом, занимаясь чем-то одним, мы неизбежно привлекаем и многое другое — прямо или опосредовано, собственным участием или способностью вдохновить. Свобода творчества свободна и выборе форм освобождения.
* * *
Искать в прошлом подсказки для будущего вполне допустимо — однако при этом на каждом шагу приходится преодолевать классовый характер многочисленных систем образования и воспитания: надо убрать их них то, что готовит не человека, а представителя класса, — все остальное можно попробовать переосмыслить в бесклассовом контексте. Если в какой-то теории после такого вычитания не останется вообще ничего — значит, не сумела она выйти за пределы своего времени, и нет у нее ни прошлого, ни будущего.
* * *
Общеобразовательные программы — орудие пропаганды. Весьма эффективное — поскольку действует на недостаточно развитые души. Например, французская статистика с гордостью сообщает, что 60% молодежи озабочены экологическими проблемами — это прямое следствие промывания мозгов: на каждом уроке детям твердят зеленую чушь, детские программы на телевидении густо замешаны на том же, детские книги все про то же... Так население с ранних лет отучают думать головой — и превращают в орудие конкуренции, разменную монету крупного капитала.
В средние века так же вбивали в головы религию; сейчас в развитых странах это формально запрещено — однако не в смысле свободы от всякой религиозности, а в плане свободы выбора религии (но какую-то выбирать всем положено!); при этом никто не регулирует дикость воспитания в семье.
* * *
Духовность не может развиваться в себе — ей нужно проецировать себя вовне и в этом внешнем бытии узнавать себя. Поэтому человек — учится всегда у другого человека, а не по собственному опыту. Чем больше учителей — тем разумнее. Для человека — нет умения вообще, это всегда общественное умение. Любые свои открытия он способен осознать только в контексте культуры в целом. Потом эта внешняя рефлексия свертывается во внутреннюю деятельность, воображение и размышление, — но это не общение с собой, а общение с кем-то другим, представленным внутренним движением субъекта.
* * *
Сочинители пособий для неопытных родителей (конечно же, прежде всего матерей) публично сожалеют, что нет у нынешней молоди былой сноровки в общении с младенцами — и не могут толком ни обиходить ни покормить... Не говоря уже о воспитательном воздействии.
Сетования не беспочвенные. Конечно статистика и живописные анекдоты — не аргумент. Но общее впечатление возникает неспроста: это своего рода индикатор состояния дел в сознании особо задумчивых граждан. Только, вот, голые факты — это сплошная неприличность, грубая эмпирия, толку от которой еще меньше, чем от поставленных перед фактом неумех. Смотреть на настоящее следует исторически — то есть, увязывая с прошлым и с прицелом на будущее. И тут мы сразу же вспоминаем, что все наши познания и настроения — от участия в общественно полезной деятельности, и никакие наставники ничему не поспособствуют, если нет у человека производственной потребности. Поскольку же в еще не столь отдаленном прошлом (а кое-где и теперь) дети активно втягиваются в семейный бизнес — вдруг оказывается, что они "наследственно предрасположены" к занятиям родителей, и получается это как бы само собой, божьим даром. Ну, про династии скрипачей или шахтеров пока не будем; но то, что в больших семьях одни детишки с малолетства участвуют в воспитании других — это совершенно однозначно, и странно было бы удивляться той сноровке, с которой они потом шуруют собственными отпрысками. Нынешние "нуклеарные" семьи подобного опыта не предполагают: даже если в семье несколько детей, родители предпочитают ориентировать старших на лучше монетизируемых началах, перепоручая заботу о малышах предшествующему поколению (поскольку сами тоже давно выпали из обоймы и публичная активность у них задвигает репродуктивные обязанности в самый зад).
Теперь про будущее. Разумно ли полагать, что предназначение разумного существа неразрывно связано с выращивание каких-то зверушек, по недоразумению (или чисто условно) принимаемых за воплощение духа, своего рода контейнер для личности? Плодиться умеют и животные — а вот плодить идеи никто кроме нас (и, возможно, когда-нибудь созданных нами роботов) совершенно не умеет. Поэтому развиваться нам придется именно туда — и от биологии все дальше и дальше уходить, выстраивая необъятные культурные тела. Процесс давно идет — и лишь коммерческие соображения удерживают зверушек в семейных (и прочих) коллективах; такая первобытная кооперация постепенно уступит место массовой индустрии, позволяющей достичь гораздо большего разнообразия и гибкости, делать тела ничем не ограниченными индивидуальностями. Поэтому "невежество" молодых в сфере детоводства есть явление знаковое, и его надо не осуждать, а всячески приветствовать. У кого есть личное пристрастие — тем и карты в руки: пусть налаживают производство организмов и из социализацию на новых началах. А кому больше по душе писать формулы или зажигать звезды — милости просим, включайтесь сразу и растите вместе со всеми. Разумеется, не забывая, что в мире много разных дел, и застаиваться в чем-то одном — не лучшая идея.
* * *
Правящие классы культивируют представления о "врожденной" культурности — об отличительных признаках породы. Идеологическая дикость материализуется в практике духовного производства: дикие семьи воспитывают малолетних дикарей — и яростно защищают их дикость от малейшего вмешательства извне. Семья враждебна культуре в целом — ее задача отстоять классовую культуру. Богатые презирают подлую чернь — не замечая собственного хамства, а нормальную реакцию рабов воспринимают как черную неблагодарность.
* * *
Педагоги — просто люди: память и уважение к ним складываются не из учебных отношений, а по способности учителя выходить за рамки дидактики.
* * *
Самообучение компьютерных сетей предполагает уже готовый реестр возможных операций, и все сводится к подстройке поведения по заданных извне критериям; при этом могут возникнуть неожиданные классы типовых реакций. Отчасти, синкретическое обучение у людей следует той же схеме: есть образцы для подражания — и система внешних ограничений. Воспитанием личности это становится лишь там, где человек волен выбирать, с кого делать жизнь, — и не просто копирует кого-то, а становится им, делает себя образцом. Мы усваиваем не умение делать — а умение быть. Тем самым все люди во всех отношениях равны — и в поведении появляется универсальность, главный признак разума.
* * *
Духовное производство порождает общественно нужный продукт и в этом плане ничем не отличается от материального производства. Если для изготовления вещей иной раз требуются подходящие материальные условия (что приводит к возникновению относительно устойчивых предприятий и отраслей) — для выращивания человеческого духа тоже нужны подходящие инструменты, индустриальные технологии. Школа как особый культурный институт — воплощение чего-то вполне осмысленного, — если есть ясность, что мы собираемся на этом предприятии производить и как это соотносится с другими задачами культурного строительства. Заранее ясно, что речь не о материи — для этого есть материальное производство, и встроенная в него иерархия производственного обучения. Но иногда полезно отвлечься от вещей и поинтересоваться возможностями духа. Не вообще — а практически, живым трудом на одном из уровней рефлексии. Художественная, научная или философская школа здесь вполне соотносимы со школой одиночества — или школой любви.
* * *
Те, кто начинает воспитывать ребенка сразу после рождения, — уже опоздали. Начинать надо, когда ребенка нет и в проекте, — создать общественную необходимость новой личности и необходимые для ее развития общественные условия. А потом уже комплектовать органическое и неорганическое тело. Точно так же, намереваясь запустить новое производство, мы продумываем его инфраструктуру, включая предполагаемый состав команды и совместимость органических тел; это запускает процесс социализации коллективного субъекта. В идеале, мы должны уметь воспитывать и общество в целом, сознательно направлять его историю.
* * *
В бесклассовом обществе воспитание и образование не становится товарным производством: мы учимся (и действуем) не для чего-то заранее определенного — а потому что мы не можем иначе, нам интересно жить именно так. От одного мы свободно переходим к другому, и торопиться нам некуда — значит, есть возможность прочувствовать, понять, осмыслить. Поэтому и усвоение культурных норм — творческий труд и внутренняя потребность. Быть разными — столь же интересно, как и оставаться самим собой. Когда нет нужно обменивать одно на другое, все остается при нас навсегда — и нет страха что-либо потерять.
* * *
Современные средства обмена духовностью далеко выходят за рамки речи: здесь участвуют аудио- и видеозаписи (а также прямые трансляции), инфографика, сильно интерактивный гипертекст. В этом участвует универсальный инструмент опосредования — компьютер. Инструмент (именно в силу своей универсальности) подчиняет себе духовное производство. Непосредственное общение все больше уходит в тень — и даже если люди встречаются, это всего лишь тусовка, а настоящее родство душ выявляется только на расстоянии. Поэтому люди для людей все больше становятся воображаемыми — но это и есть их настоящая, общественная реальность! Если нам кажется, что мы учимся из книг — это потому, что книги представляют нас.
* * *
Источник всего — любовь! Мы учимся не потому, что нас учат, а потому что мы любим учиться — и только тому, что любим.
* * *
Образование не для зверушек — основной упор на неорганическое тело, на обеспечение универсальности, общедоступности, способности полноценно трудиться — творить. Настраивать надо не мозги, а то, чем они управляют, — тогда и мозги подтянутся...
* * *
Учиться жить, жить и учиться, — а не готовить себя на потом.
* * *
Образование сообщает человеку, что в данной культуре считается правильным. Но не для того, чтобы он делал правильно, — а чтобы знал, от каких правил можно отступить.
* * *
Воображая детей непосредственными и наивными, взрослые выдают желаемое за действительное. Мимикрия — обычное явление в животном мире, и не нужно большого ума, чтобы научиться играть на иллюзиях партнера. Более того, возможность такой игры прямо связана с неразумностью общественного устройства, вынуждающего людей таиться друг от друга — вместо единой духовности.
* * *
Программы нужны — чтобы программировать. Если человека воспринимать как устройство для выполнения нужных хозяину работ — тогда без вариантов, надо обучать по программе. Какие-то устройства лучше подходят для каких-то действий — соответствующие программы удобнее писать на специализированных языках программирования. Оборудование начинают разрабатывать под определенный круг задач, эффективность растет. Так образовательная система становится узко-классовой, и начинает не столько учить, сколько воспитывать — углублять классовое расслоение. Учить по программе — давать лишь то, что положено по породе.
* * *
Какой бы продуманной ни была педагогическая теория — она все равно не охватит всего. Более того, чем детальнее наука — тем уже область ее применимости: отличие в одной-единственной детали — нарушает стройность и равновесие. Систематичность полезна там, где все работает само по себе, по природе. Но человек начинается там, где кончается природа. Поэтому физиология человека — это не биология; психология человека — уход от объективности; воспитание человека — преодоление природности. И здесь важнее не что делать — а зачем.
Мы не изобретаем системы. Мы говорим о принципах, первый из которых — не изобретать систем.
* * *
Помощь со стороны не в том, чтобы сделать "правильно". Делать что-либо вместе — значит предлагать разные пути к единой цели, искать решения, удовлетворяющие всех. Взрослому часто проще сделать самому, чем объяснить ребенку — и "помощь" сводится к демонстрации умения. Это помогает сильному самоутверждаться (как обычно, за счет слабого) — но ничего не дает ребенку: он не чувствует своей нужности, не становится человеком, творцом. Разумная помощь выглядит иначе: например, если ребенку трудно сделать что-то своими силами — можно приспособить мир к его силам, дать реальную возможность справляться с подобными задачами самостоятельно. По сути, это расширение неорганического тела — что расширяет и горизонты духовности.
* * *
Типично классовый метод консервации способа производства — инструкция, неукоснительное следование технологии. С одной стороны, предписано мертвое представление о требуемом результате — с другой стороны, получать требуемое положено лишь по абстрактным правилам, разрешенными средствами ("сертификаты" и "лицензии"). Образование в такой экономике сводится к муштре, дрессировке, — заучиванию инструкций и отработке типовых реакций на внешние раздражители.
Творческая социализация — предполагает не только усвоение готового, но и расширение культурного опыта, разные точки зрения, новые потребности и возможности. Отчасти мы видим это в искусстве: художественное образование рождает творческую манеру, расширяет человеческие представления об искусстве. Нечто подобное — возможно везде. Можно, например, выдрессировать профессионального повара — который будет профессионально готовить в шикарном ресторане, держать марку. Но кулинарный рецепт — не догма. Можно пробовать — и если не получится одно, получится что-то другое, — что-то в любом случае получится. Даже если блюдо не по вкусу — это не ошибка, а опыт. Равно полезный всем.
Аналогично, воспитание не сводится к усвоению общепринятого — это не вбивание правил в плоть и кровь — а сознательная работа над убеждениями, рост уверенности и принципиальности — как основа творческой свободы.
* * *
Воспитание в семье заведомо не может обеспечить доступ к культурному наследию (общественному достоянию) универсальным образом: в противном случае семья просто не выделялась бы как особая общественная структура. Но экономическая и духовная ограниченность неизбежно ведет к перекосам в развитии личности. Тем более в небогатых многодетных семьях, где на каждом шагу встают бытовые проблемы. Однако и здесь возможны ситуации, когда ограничения рамками семьи не принципиально:
|
→ члены семьи связаны с передовым способом производства;
→ или есть возможность переложить бытовые вопросы на кого-то еще (общественные структуры и сервисы, прислуга);
→ или кто-то из членов семьи (например, родители) представляет собой общество, занимается воспитанием профессионально (то есть, именно через них происходит социализация).
| |
Разумеется, все это при условии материальной обеспеченности и классовых барьеров. Такие семьи — отнюдь не частое явление. Однако даже в них относительная подвижность духа проявляется лишь в узких пределах — на одном из этапов социализации.
* * *
Учиться не для того, чтобы научиться, не до труда — а в труде. Совершенство — пустая абстракция; совершенствоваться надо всегда. Пригодность — классовая ограниченность, запрет непредусмотренного. Но даже в классовой школе абстрактные упражнения почти бесполезны: надо сразу делать важное, значительное, — и тогда станет понятно, чего для этого не хватает: либо общественных условий, либо индивидуальной готовности.
* * *
Ребенок и взрослый — в личностном плане, в каждом конкретном общении, — тождественны. Взрослый настолько развит как личность, насколько он способен оценить личность ребенка; и наоборот. Однако различие между их личностями все-таки есть, и связано это с характером проецирования, воплощения духа. Проекция на более развитое тело, как правило, оказывается и более деятельной в плане формирующего влияния — показывает веер примеров, вовлекает в совместную деятельность, а не только уведомляет о теоретических возможностях. Полнота личности — это универсальность, разнообразие направлений возможного развития. Ясно, что у взрослого, включенного в гораздо большее число актуальных и возможных деятельностей, личность насыщенна и разнообразна — и он просто не может не поделиться всем этим с ребенком, научив его тому, что успел сам перенять от других. Тем не менее, при всей ограниченности опыта ребенка — это его опыт, и ему тоже есть чем поделиться. Возможность взаимодействия этих духовных миров связана с культурной общностью: взрослый был ребенком — и значит, в какой-то мере им остался; ребенок будет взрослым — и значит, в какой-то мере он уже повзрослел.
* * *
Индустриальное производство — неизбежный этап на пути от кустарного, семейного воспроизводства. Дело не в ограниченности ресурсов, из-за которой приходится искать более эффективные решения; в конце концов, в условиях рыночной экономики массовый продукт далеко не всегда отвечает строгим критериям качества — здесь простор для коммерческих махинаций, подделок, отступлений от технологии ради лишнего процента прибыли. Кустари упирают на эту подленькую практику, агитируя за свой, якобы безупречный товар. С другой стороны, соответствие стандартам при капитализме проявляется как безликость, безвкусица, неспособность удовлетворить разнообразные запросы потребителя. Штучное производство, якобы, рождает ту самую индивидуальность без которой немыслимо говорить о свободе духа.
Конечно, рыночное бодание не имеет ничего общего с заботой о воспитании яркой, своеобразной личности. На практике мало у кого получается относиться к социализации как к искусству: экономические проблемы не оставляют места для неповторимости, и продукты семьи не менее однообразны — но не в смысле единого стандарта качества, а от его отсутствия: это беспросветность нищеты.
Тем не менее, сама постановка проблемы — требует внимания. Единое общественное образование — не для того, чтобы загнать в пределы допусков параметры продукта; речь о том, чтобы обеспечить равные условия развития — а это несовместимо с существованием семьи. Но дальше-то надо выстраивать иерархию общественных связей, которая по-своему развертывается у каждого участника педагогического процесса. Мы не заботимся о том, что на выходе — любой вариант разумное общество устраивает, и каждому найдется свое место в культуре. Это подобно тому, как (например) сумки одной модели делают из разных материалов, с разными аксессуарами, в разных цветовых решениях... А покупатель выберет, что ему по вкусу. Разница в том, что разумная "сумка" сама подбирает себе облик — и даже может потребовать смены фасона, или вообще не захочет быть сумкой — и станет космическим кораблем. Даже очень богатые семьи не могут позволить ребенку чересчур буйные фантазии — просто потому, что не все в мировой культуре им доступно. Развитие индустрии социализации как раз и состоит в том, чтобы обеспечить совместимость различных культур, при необходимости достраивая связующие звенья. Для этого, в частности, придется снести и семейные барьеры.
При полностью общественном воспитании, можно как угодно выстраивать круг общения; в семье он неизбежно ограничен рамками семьи. Разумеется, при условии, что человека не пытаются упаковывать в "учебный" коллектив — это было бы лишь повторением семейности на другом материале.
По жизни, буржуазная педагогика отнюдь не блещет творческими удачами: она работает на заказчика, а не в интересах развивающейся личности. Отсюда жесткие программы и сроки. На этом фоне — даже семейное воспитание выглядит по-человечески. Но это не значит, что надо снова и снова культивировать первобытность; наоборот, следует устранять школу вместе с семьей — а им на смену придет индустрия средств социализации, массовое производство индивидуальностей.
* * *
Полностью общественное воспитание никоим образом не означает, что всех детей надо собрать до кучи — в интернатах, детских домах, монастырях и резервациях... Скорее, наоборот: скопление людей в одном месте (не обязательно в смысле физического пространства) — предпосылка возникновения коллектива, расслоения общества, перехода от общественного воспитания к общинному. Та же семья — но в древних, архаических формах. Из которых закономерно вырастают все те же классовые структуры.
Парадокс: чем дальше люди друг от друга — тем ближе они к обществу в целом, к общественности как сути разумного существа. Поэтому создание возможностей быть не просто рядом, а вместе, — первая задача бесклассового воспитания. Не обязательно толкаться среди помеченных именами органических тел, чтобы ощущать свою причастность вселенской миссии человечества — одухотворению мира. Как это организовать технически — другой вопрос; быть может, ресурсы нашлись бы даже сейчас — если бы не противодействие правящих классов, которые заинтересованы в производстве послушных рабов, а не людей, — для чего стадная педагогика в самый раз.
Может показаться, что идея уединенности противоречит нашим представлениям о любви как духовном слиянии личностей, снятии всех различий между ними — включая телесные. Но уединенность не означает изоляции! Наоборот, согласование органических движений при непосредственном контакте — задача слишком сложная для начальных этапов становления личности, и разумнее ограничить столь жесткие взаимодействия, которым учиться, конечно же надо, — но на другой базе, с опорой на уже сложившееся сознание своей общественности. Разделение органических тел выводит на первый план единство тел неорганических, культурную, а не животную общность. Включить сюда органику задним числом — не представляет труда. Идея любви как духовного единения возникает в истории только в Новое время — когда заложены основы системы всеобщего разделения труда и люди (пока лишь внешним образом) воспринимаются как индивидуальности. Современная педагогика заставляет детей проходить в сжатом виде историю цивилизации — и воспитывает бездуховность, на которую лишь при хорошем раскладе, может наложиться человеческая любовь. Чем раньше мы освобождаем детей от формального размежевания (коллективность, групповщина, семейственность) — тем шире круг духовных взаимосвязей, и тем скорее человек включается в активную работу над собой, делает себя человеком.
* * *
В классовой школе учат тому, что полагается. Любой материал сверх программы — во внеурочное время, факультативно. Но именно такие занятия — образование в человеческом смысле слова.
Уроки могут быть интересны — но не как цель, а как средство, возможность продать себя вместе со своими познаниями. Когда программа включает явно бесполезные в рыночном плане сведения — никакого интереса к занятиям быть не может: просто невыгодно. Это не злонамеренность, не лень — наоборот, людям не хочется тратить время и силы на то, что по жизни им вряд ли потребуется, — лучше освободить себя для серьезных дел. Когда не нужно будет торговать собой — не будет и лени; но тогда никакие программы не нужны.
* * *
Воспроизводство субъекта должно из индивидуально-кустарного стать общественным, на индустриальной основе. Иначе, даже на базе передовой экономики, отсталая технология духовного производства будет уродовать личность, создавать дурные (бездуховные) проекции. Важно не остановиться на этом — и снять само различие общественного и индивидуального. Тогда любой результат будет вкладом в развитие культуры — единством природы и духа.
* * *
Классовый характер искусства отчетливее всего высвечивается в практике преподавания. В художественном творчестве (поскольку оно остается художественным) — какая-то доля искусства так или иначе присутствует. Но когда в историю вводят новичков — остается лишь классовая догма, промывание мозгов.
Нагляднейший пример — школьные уроки литературы. Задача не просто ознакомить помочь найти что-то для себя; нет, надо настроить восприятие на лояльность властям, запутать в стереотипах, отвратить от неблагонадежных литераторов — а благонадежные скучны уже в силу всеобщей обязательности, пошлости (в итоге — полное отсутствие к творчеству, убийство разума методом утопления в пустых детективах и мелодрамах). Знакомиться с такой историей искусств (и вообще с историей) уже не хочется — и тогда знание сводится к рефлексам, стандартным ответам на стандартные вопросы.
В качестве яркой иллюстрации — французское пособие для школьных учителей:
André Lagarde & Laurent Michard,
Les grands auteurs français du programme
| |
Шесть томов этого фундаментального труда издавались и неоднократно переиздавались на протяжении всего XX века, с учетом свежих веяний. Но основная направленность неизменно сохранена. Так чему же должны учить французских детей французские педагоги? Оказывается, главный вопрос всех времен и народов — это отношение к религии. Авторы придерживаются достаточно либеральных взглядов — и допускают сосуществование разных верований; однако единственно истинным следует считать христианское вероучение (кроме русской православной церкви). В любом случае все включенные в программу авторы показаны со стороны их религиозных тенденций; кто не уделил вопросу сколько-нибудь значительного внимания — те, якобы, для современного читателя не интересны; их достаточно лишь мельком упомянуть — и списать в архив... Вероятно, списали бы больше — но лиц мировой известности из списка не вычеркнешь; впрочем, литераторы — народ идеологически беспорядочный в достаточной мере, чтобы выдрать из творчества пару строк якобы мистической ориентации. Даже у Жореса отрыли (совершенно неуместное по контексту) признание:
|
... notre interprétation de l'histoire sera-t-elle à la fois matérialiste avec Marx et idéaliste avec Michelet.
| |
Что уж говорить о старых (и тем более средневековых) авторах, для которых религиозный язык часто оказывался единственно доступным средством выражения. Таким образом история французской литературы предстает перед невинными младенцами в совершенно искореженном ракурсе, когда все главное замалчивается — а второстепенные детали захламляют местность вплоть до (исторического) горизонта.
Другая идея фикс — сведение художественности к простому перечню житейских впечатлений. В почете гипернатурализм — и чем подробней описания, тем большей хвалы заслуживает писатель по мнению господ-компиляторов. Перекос в сторону пейзажной живописи вгоняет читателя в дикую тоску; бытописание и живописание нравов — единственное литературное достоинство (конечно, после божественных откровений). В качестве нагрузки — неравнодушие составителей к пышной риторике и эпистолярности, к мемуарам и панегирикам; отсюда длинные цитаты из авторов, которых вообще можно было бы в школьном курсе не замечать — оставить на любителей покопаться во второсортной экзотике.
Удивительно ли, что большинство французов с содроганием вспоминают письменный выпускной экзамен по литературе (у них говорят: по философии)? Стоит заговорить об искусстве всерьез — зашикают, пошлю подальше. А нет вкуса к самостоятельному общению со старыми авторами — и новых опошляют на лету. Johnny Hallyday, кумир молодых (и не очень молодых) — с треском провалился при попытке выкатить философскую рок-оперу о Гамлете. Тем больше риск для не столь великих — вот и предпочитают не увлекаться лишний раз. Добавьте сюда столь же догматическое преподавание гуманитарных дисциплин в школе и в вузах, дебильный "позитивизм" в естественных науках, вывих на почве "дискурса" в философии, — откуда у тамошнего обывателя минимально реалистичные взгляды на прошлое, настоящее и будущее? Жизнь схлопывается в точку; а точек много — что их жалеть!
* * *
Общественное воспитание означает, что ребенка воспитывает прежде всего общество в целом, то есть каждый его член причастен к воспитанию детей и не может оставаться равнодушным в этом деле. Однако ребенка воспитывает не только общество в целом. Должны быть также найдены каналы опосредованного воздействия общества на человека, то есть воздействия через общение его с другим человеком — но такие каналы, которые начисто исключают выделение воспитателя из общества, противопоставление личности человечеству. Чтобы ребенок чувствовал: за плечами взрослого стоит нечто гораздо более высокое — до чего, быть может, и сам воспитатель еще не довзрослел. Тогда уже не нужно чувствовать себя ребенком, и можно взрослеть вместе.
* * *
Деятельность выстраивает иерархию завершенных действий — но сама не завершается никогда. Если вместо подвижной иерархичности жесткая структура — действия свертываются в операции, и деятельность становится действием.
Воспроизводство разума — принципиально бесконечный цикл. Когда мы догадываемся, чем занимается, — это уже деятельность, порождение неприродного продукта. Но если воспроизводить не разум как таковой, а его воспроизводство — оказывается, что воспроизводить мы можем только отдельные стороны, компоненты, предпосылки разумности — но для разумности этого недостаточно. Деятельность превратилась в действие; бесконечное стало конечным. Но тем самым и воспроизводство воспроизводства потеряло смысл — оно занимается на деле чем-то совсем другим.
В этом причина бессмысленности формального образования — какими бы благими намерениями его ни оправдывать. У разума единственный мотив — преобразование мира. Если при этом удается изменить и себя — это побочный эффект, но никоим образом не мотив деятельности.
Иначе: разум оказывается тождественным миру. И только потому умеет воспроизводить и переделывать себя.
* * *
Традиционно различают образование "вглубь" и "вширь": либо досконально знать что-то одно — либо представлять себе состояние дел сразу в нескольких отраслях. Эта противоположность — прямое следствие классовой экономики, в которой распределение деятельности приобретает характер разделения труда. Творческая, духовная сторона труда становится прерогативой господ — и на долю раба выпадает только работа, исполнение чужой воли. Это вполне аналогично противоположности денег и товара в политической экономии: деньги представляют владение, власть, — и в полном развитии превращаются в капитал, способный двигаться по собственным законам, порабощая также бывших господ. Широкое образование у верхов — равнозначно всеобщей покупательной способности денег; рабы могут как угодно различаться — но хозяину они на одно лицо. Но, как и движении капитала, возникает иерархия прослоек: управленцам разных уровней требуется относительно специализированное образование, достаточно широкое, чтобы охватить все подчиненные производства.
В каждой из таких прослоек в какой-то мере сохраняется творческий характер труда, и возможна работа "по призванию" — любовь к своему делу. Майкельсон находит безумно интересным бесконечное уточнение измерений скорости света — Эйнштейн только пожимает плечами... Отношение физиков-теоретиков к экспериментаторам во многом сродни классовому барству; но физики как класс — свысока смотрят на гуманитариев, и раболепствуют перед математикой...
Формальное разделение социальных групп и слоев — пережиток феодализма. Рынок внедряет хозяйчика в каждую душу — и возникает идея универсального образования, абстракция умения делать деньги. Люди при капитализме различаются в количественном отношении, и общественные слои образуются как своего рода классовая шкала, на фоне однородности качества; отсюда избитая хохма: счастье не в деньгах, а в их количестве. И тут иерархия классового образования перевертывается и восстанавливает исходную противоположность: разносторонность — привилегия элиты, и наоборот, элитарность как выход за рамки универсального образования.
* * *
Предполагается, что воспитание приобщает ребенка к культуре, делает дикаря полноценным членом общества, уравнивает его с прежде рожденными. То есть, предполагается заведомое неравенство — и превосходство одних над другими. Но экономическое неравенство — само по себе признак духовной незрелости, дикости. С другой стороны, в царстве всеобщего разделения труда неизбежна ограниченность интересов — и взрослые в этом отношении ничем не лучше детей. Получается, что один урод воспитывает другого — но что тут можно передать, кроме своего уродства? Глядя на иных современников, трудно удержаться от мысли: уж лучше бы этот не совался в учителя!
Классовое образование не привносит духовность в пустующую плоть; оно лишь цивилизует — подчиняет закону (во всех ипостасях). Ограничивает, а не освобождает. По счастью, дух способен двигать тела и без дикарей-наставников — чаще всего, вопреки им.
* * *
В каком-то смысле воспитание правящих классов в феодальном и капиталистическом государствах гораздо ближе к общественному, чем социалистическое семейное воспитание. Когда воспитанием занимаются специальные люди, которые обязуются перед обществом (классом) сделать из детей людей вполне определенного склада (классовая принадлежность) — они представляют общество (представленное господствующим классом), — то есть, выступают от его лица, а не как самостоятельные личности. А следовательно, и любовь воспитанника к воспитателю есть любовь ко всему обществу (классу). В семье же любовь индивидуальна — то есть, по факту, антисоциальна. В любой семье, в любую эпоху, пока еще есть семья как культурный институт. Оказывается, что в семье человек проявляет свою общественную сущность как раз там, где он не признает родственных ограничений, идет против традиций. Классовое общество начинается с семьи — но семья никогда не представляет класс: она есть явление чисто отрицательное, разрушение общественных связей, их замена антиобщественными. Отсюда стойкие иллюзии о природности семьи: вырывая человека из общества, семья превращает его в животное.
* * *
По большей части, массовое образование синкретично: люди приобщаются к нормативному поведению просто потому, что так устроен быт — и ничего другого им не предлагают. "Свободные" художники, журналисты и мыслители — просто не в состоянии вообразиться себе что-либо выходящее за рамки впечатанных в подсознание стереотипов — которые иногда могут показаться врожденными, присущими человеку "по природе". Когда творчество таких, заведомо зашоренных творцов используют для сознательной манипуляции общественным сознанием, это прежде всего касается синкретической сферы: есть то, что всякому "нормальному" человеку положено знать, чем "все" должны интересоваться, какие приличия следует соблюдать — и какие неприличности под чем подразумеваются. Сериалы, игры, спорт, светская жизнь, индекс цен и парламентские дебаты... Мощный пласт классовых стереотипов. Обыватели публично соревнуются в пошлости — это нормально; малейший нестандарт — никому не интересное занудство... Даже когда речь о науке — на виду только расхожие банальности. Даже об искусстве — шаблонная попса. Школьников учат "правильно" рассуждать ни о чем — это называется философией. Сдали экзамены — и про способность суждения можно забыть, и выдавливать из общества тех, кто забыть не смог.
* * *
Классовый человек живет в иллюзорном мире — и пытается навязать миру свои иллюзии. Разумный человек замечает условность (культурную обусловленность) своих представлений — и решает, что правильнее изменить: привести мир в соответствие его идее — или искать другие идеи, ради которые стоило бы менять мир.
Испокон веков взрослые думают, что они учат детей уму-разуму (то же о начальниках и подчиненных). При этом дети считают "предков" лишь средством для решения задач, иногда очень далеких от намерений старшего поколения (то же о формальном пиетете по отношению к руководству). "Детская" позиция может показаться циничной; но она ближе к реальностям бытия, — и потому (а вовсе не в силу вымирания стариков) побеждает в борьбе миров (отживающего и приходящего) именно молодежь.
В обществе разумных людей все учатся у всех — и никого не учат; все пользуются всеми — но каждый рад стать полезным. Здесь нет ни взрослых, ни детей — и действие не предполагает противодействия. Один дух не мешает другому: они не занимают места — и равно присутствуют в каждой точке вселенной.
* * *
Образование — не абстракция; если оно не вырабатывает никаких навыков — это пустое времяпровождение. Разумеется, можно учиться на разных уровнях — и ознакомление с кругом возможностей столь же полезно, как и практическое использование одной из них; но это разные деятельности, со своими мотивами.
Там, где речь идет об овладении возможностями тела, простое знакомство почти бесполезно — здесь важно умение управлять телом культурно допустимыми способами. Даже если нам не нужна какая-то из органических функций, ее нужно тренировать для поддержания работоспособности организма в целом. Поэтому половое воспитание не может ограничиться высокой теорией, разглядыванием картинок и прочим вуайеризмом. Это надо пробовать — подбирать свою манеру обращения с телом, окультуривания его физиологии. Ограничиться общими наставлениями — все равно что учить танцам по книжке или видеозаписям: пока нет реального партнера или партнерши — такая теория не ляжет на материальную основу, останется абстракцией. Разумеется, что-то можно (и нужно) имитировать в одиночку; однако такие занятия полезны лишь там, где уже есть общее представление о взаимодействии в паре — и можно вообразить себе недостающее.
Уроки полового воспитания в современной школе — только одна сторона вопроса, предъявление культурных требований; пока школьник не знает, к чему эти требования предъявляются, он, скорее всего, пропустит все мимо ушей. Нужны практические занятия с опытным партнером (грамотным и в педагогическом плане, а не только сексуально опытным) — разумеется, не на публике (чтобы сохранить чувство интимности как часть духовной культуры). Если практика секса сводится к случайным связям в дурной компании — воспитывать уже поздно, надо корректировать...
По сути, это ничем не отличается от овладения любым другим делом. Можно научиться играть на скрипке по интуиции — но какие-то тонкости мог бы подсказать грамотный педагог. Можно самому дойти до хитростей кулинарии — но разумнее использовать уже накопленный опыт. Программирование — вопрос не только склонности и таланта, но и определенной культуры. Человек — общественное существо; но эта его всеобщность может сложиться лишь на основе манипулирования вещами в контексте совместной деятельности.
* * *
В классовом обществе дети всегда оказываются (частным или общественным) имуществом, вещами, а не людьми: с ними поступают как хотят, у них нет права голоса, им нельзя ничего доверить... Всякая свобода в таких условиях — видимость; и дети (особенно подростки) это очень хорошо чувствуют. Более разумное решение (насколько возможна разумность в правовом государстве) — с самого начала сделать детей самостоятельными членами общества, определив надлежащим образом их права и обязанности и установив порядок контроля. Тогда можно требовать и ответственности. Как следствие — обязанность взрослых оказывать содействие воспитанию и обучению, а также прочую помощь, любым детям — или иным членам общества. Тогда дети могли бы стать гораздо мобильнее — не на привязи к одному дому, к одному взгляду на мир. Воспитанная таким образом тяга к универсальности сказывается на последующих поколениях, и духовный прогресс набирает обороты, тянет за собой развитие материальной культуры.
* * *
Индустриальное воспроизводство субъекта возможно уже сегодня, при давно существующих технологиях. Это не вопрос перехода к иному воплощению духа — достаточно разумной организации. Пусть мы пока привязаны к биологическим телам, и не умеем производить их без обременительной физиологии; но кто мешает построить для этого хорошо оборудованные репродуктивные центры, нанять на работу специалистов по искусственному оплодотворению и комбинировать генный материал безымянных доноров случайным образом (с отбором и отбраковкой на ранних стадиях) или целенаправленно культивируя полезные признаки (при условии разумного разнообразия); точно так же, как рабочих нанимают на фабрики, можно нанимать суррогатных матерей (с щадящим режимом работы), которым будут подсаживать оплодотворенные клетки и выращивать таким образом органические тела (младенцев), которые изначально не имеют родителей — и на равных основаниях воспитываются в специальных общественных учреждениях, с постепенным встраиванием в доступную на данном уровне развития орудий труда практическую деятельность. Даже такая, минимальная индустриализация репродуктивной сферы привела бы к формированию человека нового типа, способного освободиться от классовой ограниченности и стремящегося к свободе.
* * *
Как материальное, так и духовное производство — развертываются на разных уровнях. Продукт деятельности — это прежде всего общественный продукт, часть материальной и духовной культуры. Но, наряду с этим, есть единичные участники производства, которым вовсе не безразлично, что и как они делают. Да, здесь тоже есть утилитарный элемент, воспроизводство индивидуальности и личности, плоти и духа. Такое производство сливается с экономикой, принимает ее формы. Однако важна и собственно духовная составляющая, когда за каждой вещью (материальной или идеальной) мы усматриваем человека — его труд, его мечты, его любовь. И нам важно не сделать, не свершить, — а общаться, восстанавливать духовное единство. Производство — для чего-то; общение — ни для чего.
Разумеется, это две стороны одного и того же, и они перетекают друг в друга и невозможны друг без друга. Но если я духовно вырос в результате общения с любимым человеком — это вовсе не значит, что ради этого производства все и затеяно. Общение без материальных и духовных последствий — это из дикой природы, или мертвой стихии; но для нас главное не результат, а его неприродность, его дух. Точно так же, по ходу общественного производства люди неизбежно общаются — но производство организовано не за тем, и в первую голову речь о продукте, а не о дружеской компании. Смещение фокуса почти неуловимо — но оно радикально меняет дело.
Искусство, наука, философия — отрасли духовного производства, и в этом качестве они вырастают из материального производства и обслуживают его. Социализация органических и неорганических тел (обучение, воспитание, образование) — другой уровень духовного производства, но все-таки производство, экономическое явление. Но если рефлексия становится образом бытия, не предполагая ни малейшей утилитарности — это движение духа. Когда человек не заботится о любви и свободе — он по-настоящему любит и свободен. Этого не достичь без благоприятных экономических условий — однако в любых условиях есть своя достаточность, и проявить собственную духовность возможно хотя бы с одной из сторон, которая представляет и то, чего пока (или уже) нет.
Известная хохма: я могу тебе это объяснить — но я не могу за тебя это понять. Общество создает условия для развертывания духа — обучает и воспитывает; но быть личностью человек может только сам.
* * *
Образование — не только обучение, но и воспитание отношения к миру (а значит, и к людям). В частности, как-то относиться и к своим занятиям. Как минимум, на уровне заинтересованности — в отличие от простой осведомленности или праздного любопытства.
Тенденция начала XXI века — утрата идеи самосовершенствования. Обществу уже не нужны творческие люди, любители заглядывать за горизонт. Они, конечно, пока есть — но тем резче выделяются на фоне нивелированного усредненного образования. Одно время казалось, что различия должны сгладиться, и все население потихоньку дорастет до высокой духовности и непрестанного творческого поиска. Мода ушла, культурность снова сводится к поверхностному знакомству и умению быть "как все" (в том числе по части глупого оригинальничанья). Если раньше образование нацеливали на всестороннее развитие и уважение к собственной образованности — современность возводит в добродетель шаблонность и конформизм, соответствие стандарту. Нанимают просто работников — а не знатоков и умельцев; живое общение с соискателями заменяют сертификаты и тесты. К этому же сводится образование: заучить, получить корочки, думать об оценках, а не о достижениях.
Все привыкли: на каждый ответ есть "правильный" ответ — поэтому надо не заниматься самодеятельностью, а догадаться, что от нас требуют и как выглядеть правильнее конкурентов. Соответственно, и себя большинство воспринимает не по-человечески, не как становление, а как нечто ставшее, готовое, ответ на вопрос — а не постановку задачи. Отсюда и чисто количественные критерии жизненной состоятельности: коммерческий успех, обширность круга полезных или бесполезных знакомств, заметность и престиж. Современные сетевые тусовщики коллекционируют внешние ссылки, случайных визитеров, объемы просмотра, записавшихся в "друзья", "лайки"...
Первоначально, всемирная паутина была чем-то вроде игры-аркады: по ней можно было бродить, время от времени натыкаясь на (приятные или неприятные) сюрпризы... И это было кому-то интересно. Сегодня все по-другому: бегом, бегом, найти стандартный ответ на стандартный вопрос, вставить его в типовую форму — и побежали дальше. Чисто утилитарно, ни в коем случае не оглядываясь по сторонам: кто задумался — тот не успел. Тот же стиль — везде и всюду, в быту и в работе (для заработка, ради права продолжать гонку). Зачем ломать голову? — это не окупается. Вопрос "почему" давно уже обозвали демагогией — и важно быстренько комбинировать, а не творить. Рыночный продукт — сплошные франкенштейны.
Конечно же, под это подвели и философские "обоснования". Два лица одного и того же: прагматизм и позитивизм — или сюрреализм и трепачество пост-модерна. Всеобщий пофигизм: я делаю как положено, и мне все равно, что получится, — и тем более не важно зачем.
Технический прогресс нацелен не на поддержку творческих исканий (пусть я сделаю уже известное — но сам, и по-своему!), а на облегчение поиска в грудах культурного хлама. Машина не только предъявляет список для выбора — но и подсказывает, что сейчас принято выбирать, а потом уже и выбирает за нас. Таким образом, чтобы общественное достояние концентрировалось в чьих-то руках, ускользая от всех остальных — которые превращаются в автоматы, в орудия.
Конечно, началось не вчера — ниточки тянутся в древнейшие эпохи, к первым шагам классовой экономики и классового образования. Однако сейчас это приобрело характер пандемии — и то, что раньше считали болезненным извращением, испорченностью, теперь позиционируют как норму общественного бытия, обязательное для всех правило. Если это есть — оно, конечно, для чего-нибудь нужно. Остается лишь сомнение в разумности человеческого пути — и его исторических перспектив.
Можно ли изменить? Об этом кое-кто пока спрашивает. И снова нарывается на все тот же комбинаторный ответ: давайте выстроим образование так, чтобы искусственно создавать себе трудности — и тем самым приучаться их преодолевать. Опять тренировка, отработка навыка — вместо превращения творчества во внутреннюю потребность. Чтобы стать разумными — надо не делать это мотивом и целью, а менять мир, выходить за рамки существующего, поместить себя в иную культурную среду, в которой людям не нужно было уподобляться и соответствовать, и было интересно учить и учиться — а не научить и выучиться.
* * *
Ложь возможна лишь там, где господствует конкуренция. Любой ценой — эфемерное преимущество. Кто использует других — того другие используют. Нескончаемый страх. Тщетная попытка подпереть неразумное неживым.
Разуму чужды сомнения; ему незачем проверять и удостоверяться. Что бы ни происходило — суть не в этом, а в стоящей за этим совместности. Не против друг друга — а вместе. Такое общение не имеет ничего общего с передачей информации — и еще меньше с ее соответствием чему бы то ни было. Истина, верность, правильность — остаются в классовом прошлом. Пусть будет что угодно — это грани единства.
* * *
В истории человечества, и в истории каждого ребенка, — обычное движение от синкретизма, через анализ, к синтезу. Личность есть — но не сразу осознает себя как личность. Сначала это часть чего-то другого, достаточно широкого, чтобы обеспечить простое воспроизводство духа; человек как часть рода — не нуждается в индивидуальности, а ребенок как часть среды — полностью зависим от нее. Отсюда иллюзия объектности первобытного человека или ребенка: субъектом кажется только общество. На первых этапах родители заботятся лишь об удовлетворении "первичных" потребностей, о создании зоны комфорта; то же самое происходит в пресловутой "коммунистической" общине.
Но рождение ребенка не датируется временем отделения от материнского (или иного) организма: по сути, ребенок еще встроен в "расширенный" организм, и ему (как и окружающим) еще предстоит разрушить первобытный синкретизм, осознать себя как единичность. Классовое общество знает только один способ: противопоставить одного человека другим. Как? Отгородившись барьером из вещей. Если поначалу все непосредственно является всеми — на аналитической стадии различаются "мое" и "не мое"; это вовсе не обязательно ведет к идее собственности — но классового человека к ней настоятельно подталкивают, ибо нет в его мире почти ничего, что не подлежало бы отчуждению и обезличиванию. Легко заметить эту стадию в семейном воспитании: ребенку не дают проникать в личное пространство других людей — и поощряют идентификацию со "своими". Именно здесь складываются всевозможные "комплексы", несовместимость личности и общества, зачатки неврозов.
Парадоксальным образом, обособленный и противопоставленный другим человек — все еще встроен в непосредственное окружение и не может существовать без него. Поэтому аналитический уровень еще нельзя назвать собственно рождением — возникновением целостного субъекта: его бытия для себя оторвано от бытия для других — и этот конфликт приводит к очень разным последствиям, в зависимости от общественных условий. При удачном стечении обстоятельств, его разрешение связано с поисками единства, желанием творчества и любви. К сожалению, вместо них человеку подсовывают классовые суррогаты, разочарование вместо восторга и вдохновения. И тогда внешним (вещным) проявлением духовного разлада становятся воля к власти и раболепие — всегда совместимые в одном человеке как две стороны одного и того же, которые приходится разводить по разным уровням, подчинять одно другому.
Достижение единства человека и человечества, возможно и в нечеловеческих условиях — как сторона чего-то другого. Иногда это очень болезненно — но всегда воспринимается как высочайшее счастье. Система образования почти никогда этому не способствует — но она создает искусственную среду, в которой есть шанс встретить яркую личность, открыть для себя любовь — и угадать направления работы над собой, превращения в человека разумного.
* * *
Революции почти не меняют экономику — и первые декреты новой власти лишь узаконивают то, что давно сложилось в недрах прежнего строя, и благодаря чему возникают предпосылки революции. Значение революций — главным образом, воспитательное: во-первых, в человеке утверждается сознание возможности перемен — деятельное отношение к истории, когда будущее не дар, а продукт; во-вторых, радикально меняя среду социализации, люди по-иному развертывают духовность в последующих поколениях, иначе расставляют общественные (а значит, и личные) приоритеты, переходят к иному понятию культурности.
* * *
Воспитательным бывает лишь такое общение, когда один человек стремится разобраться в себе через другого — то есть, воспитывает себя и учит себя. Такое стремление хорошо заметно, удивительно — и заразительно; воспитание становится взаимным, приобретает характер воздействия, духовного производства.
* * *
Люди разные — и это правильно. И подходы к делу у них заведомо не одинаковы. Чтобы сравнивать — нужно привести к единому основанию. А этим основанием может быть только кто-то третий, с его личными пристрастиями и наклонностями. Поэтому глупо выглядят буржуазные представления о профессионализме: если кто-нибудь не одну собаку съел в своей узкой специальности — другому это без разницы, если он собак не ест, а есть что-нибудь свое. Можно всю жизнь посвятить изучению предмета — но это постижение выглядит пустым дилетантством в глазах того, кому в предмете интересно вовсе не то, догадаться о чем никто кроме него не сможет — и ни на каком языке это отношение невыразимо. Самый крутой профессионал пройдет мимо таких особенностей, не обратит внимания. А кому-то ясно с первого взгляда, и без подробностей можно обойтись. Как в любви: проскочит искра — или нет контакта; никто никому не указ.
Разумеется, классовое начальство искренне полагает, что его взгляд самый-самый, и что все остальные дураки. Которых иногда приходится учить уму-разуму. Для этого существует школа — и переводят из класса в класс по мере отработки образовательной повинности. Потом высшая школа, где свои градации. Несертифицированным — по жизни проходу не полагается. Нормальному человеку (не свихнувшемуся на миражах рыночного успеха) приходится внешне изображать по стандарту — однако для себя выхватывать что по душе, и копить потихоньку, не афишируя внутренних запасов. Чужая душа — потемки; своя — крепость.
Там, где не нужно делить на чужое и свое, люди делают, что им по сердцу, и заимствуют со стороны не то, что плохо лежит (или по дешевке на распродаже), — а избирательно, в резонанс, кирпичик к кирпичику прихотливым узором. Который уже не нужно прятать — а можно любоваться всем миром, и строить следующий мир.
* * *
Когда мы говорим, что человек строит себя сам — мы вовсе не имеем в виду какое-то конкретное тело. Речь о том, чтобы тело смогло (в каких-то отношениях) представлять человека, его личность, дух. Человек производит тела как знаки — обозначает свое присутствие. Как и любое другое, это производство носит общественный характер: произвести что-либо полезное в одиночку практически невозможно (хотя бы потому, что должны существовать те, кому это полезно). Таким образом, воспитывать друг друга нам придется при любом раскладе — однако в каждом конкретном случае иерархия выступает в одном из возможных обращений, так что иногда на вершине оказывается сам воспитуемый, а иногда кто-либо из возможных (или невозможных) знакомых. В последнем случае ответственности за саморазвитие никто не снимает — и присутствие воспитуемого на низших уровнях означает творческую переработку внешних воздействий, так что внутри окажется вовсе не то, что наваливают снаружи. Окультуривание тел ни коим образом не означает следования предписаниям культуры — наоборот, речь о влиянии приведенного в общественное движение тела на строение культуры: пока такого эффекта нет — перед нами всего лишь организм, и никакую личность он не представляет.
Личность никогда не ограничивает свои воплощения одним биологическим телом — ей важно освоить как можно более широкий круг способов воздействия на природу, и далеко не всегда единичное тело поддерживает столь масштабные задачи. Тем не менее, иерархия органических и неорганических тел, соотнесенная с определенным характером (общественного) действия, также выступает всегда в одном из возможных обращений — и в каких-то случаях личность вполне допустимо связать с организмом, особью биологического вида; важно лишь не забывать, что это не единственная возможность и что распад органики предполагает не исчезновение личности, а лишь перенос ее в другие (общественно-культурные) формы.
Относиться к ребенку как к личности — это традиционный оборот речи, на практике означающий совместный труд многих людей над превращением новорожденного младенца в культурное явление, единство природы и духа: мы заранее предполагаем, что это тело может сталь знаком (воплощением) вполне определенной личности — и ведем себя так, будто связь плоти и духа уже установлена, выстраиваем среду организма, чтобы он двигался как будто бы по чьей-то воле, а не только повинуясь биологическим законам. Поскольку этот продукт создается под конкретную личность — она участвует в социализации наравне с другими: мнение назначенного обществом "обитателя" тела отнюдь не безразлично воспитателям и учителям. Однако до некоторого момента тело связано с личностью не более чем план розария с ароматом роз. Когда культурная среда в основном сформирована — дальше все идет само, и обществу остается лишь корректировать неудачные движения, несовместимые с характером личности, — но выглядит это как работа человека над собой, влияние личности на человечество в целом.
* * *
В классовом обществе сплошные крайности — и правильное четко отделено от неправильного. Если границу найти не удалось — это, согласно классовой логике, лишь свидетельство неразвитости нашего интеллекта — а сами по себе правильность и неправильность заранее заданные (спущенные сверху) противоположности. Логические форма априорны и встроены в человеческий рассудок природой (предполагая что человек природное существо — и какая-то природа у него есть). Следовать своей судьбе — единственное, что нам остается (точнее, это то, чего от нас ожидают вышестоящие инстанции). Поэтому классовое образование есть главным образом приведение в соответствие: чтобы рабы работали, слуги служили, господа господствовали... Всеобщее разделение труда оборачивается всеобщей дрессурой.
Другими словами, если изначально относиться к человеку как к животному — он и будет животным, и незачем заботиться о духовной пище — достаточно плотских благ. У животных нет ни знаний, ни умений — у них только стереотипные реакции, рефлексы. Животное ими не управляет — они для него неодолимая внешняя сила (подобная той самой априорной логике). А обучение и воспитание (при всей своей классовой ограниченности) предполагает сознательное приобщение к культурному достоянию — возможность ставить перед собой задачи и творчески их решать. Сведите образование к пустой формальности — и это уже не обучение и воспитание, а выработка рефлексов.
Вероятно, такое синкретическое введение в культурность организму необходимо на начальном этапе — хотя "начальность" определяется не по календарю и может быть разной в разных отношениях и на разных этапах (уровнях). В любом случае засиживаться в этом не резон, и надо как можно раньше отпускать тела, позволять им проявлять себя — прислушиваться к импульсам, отсеивать животное и поддерживать человеческое.
Всякий продукт не сам по себе — ему предполагается культурно определенное назначение. Но если вещи мы сразу включаем в состав нашей (искусственно созданной) природы — изготовление человека имеет целью сделать его субъектом деятельности, принципиально неприродным существом. Поэтому собственно природные воздействия важны не сами по себе, а как способ настройки представляющей субъекта совокупности тел — чтобы из движение и взаимодействие отвечало предполагаемой культурной функции. Но этого не достаточно. Предстоит еще и преобразовать себя — научиться распознавать во всем этом культурную составляющую, воспринимать природное движение как движение духа. Мы не можем учить, ничему не научившись; не можем воспитывать, не воспитывая себя. Субъект как продукт деятельности — принципиально не завершен: он становится субъектом лишь изменяя мир, и общество в целом как часть этого мира. Классовый человек — существо конечное, и его образованность означает лишь овладение набором предписанных извне навыков — ничего сверх норматива не только не предполагается, но зачастую и не считается общественно допустимым, воспринимается как помеха продуктивному использованию; это воспитание работника, раба. Противопоставленное личности общество не интересуется личными мнениями — ему важно только, чтобы деятельность не выходила за установленные сверху границы. Категорический императив классового поведения — поступай как все, по общим для всех правилам (которые предполагаются вечными и априорными, стоящими, якобы, над любым частным интересом). Финальный штрих классового воспитания — стадность, сознательное уподобление высшему принципу, перерастающее в агрессию, когда кто-то отказывается соответствовать. Начальству уже не надо никого наказывать: рабы соберутся кучей и забьют отщепенца до смерти — потому что присутствие среди них свободного человека чувствительно напоминает о ненормальности рабства как такового, и нет больше комфортной безответственности, возможности тупо плыть по течению. Адекватность реакций (социальных рефлексов) называется в среде общественных животных культурностью. Подавление личной свободы, вытеснение творческой инициативы в угоду стадной культуре — исток вездесущих неврозов и психопатий.
Каким образом человеческое превращается в животное? Вспомним о трех универсальных уровнях:
операция → действие → деятельность
Процесс (само)обучения и (само)воспитания свертывает деятельности в действия, а действия в операции. Нам уже не требуется специально обращать на что-то внимание — все происходит как бы само собой, "машинально". Однако свертывание вовсе не означает однозначного закрепления — просто управление поведением выносится за рамки сознания, "делегируется" внешней среде (неорганическому телу). При необходимости можно вернуться к ранее освоенному и развернуть операции в действия или в деятельности. В деятельности человек переосмысляет прежние навыки, наполняет их новым содержанием — потом снова свертывает, чтобы заняться чем-то другим. Возможно это благодаря сохранению в культуре соответствующих деятельностей, способов производства. Но если доступ к культурному наследию дозволен не всем и не всегда — развернуть операцию в действие уже не получится, и она так и останется застывшим шаблоном, вне творчества. Это вполне соответствует тому, как условные рефлексы у животных становятся инстинктами, встраиваются в физиологию. Как только (и в той мере насколько) в обществе различия между социальными группами перерастают в разделение труда, в профессиональное размежевание, — это уже не человеческая деятельность, а животность. Восстановить человеческое в человеке может только устранение барьеров и запретов, слом репрессивного аппарата, — однако в ряде случаев индивидуальная "терапия" может подсказать человеку новые направления творчества, еще не закрытые классовым размежеванием. В любом случае, это не медицина — это человеческое общение, поиск возможности общения, выдавливание из себя раба. То есть, опять взаимное обучение и воспитание, повторение пути, по которому идут в ходе социализации органических тел, взросление детей. Если же не найдется никого способного отнестись по-человечески, остается оскотиниваться и гнить в бездуховности — сколь бы роскошной ни казалась такая жизнь со стороны.
* * *
Преобразование природы предполагает сопротивление неразумной материи, которая вовсе не стремится вести себя культурно — и даже, скорее, наоборот, разрушает созданное при малейшей возможности. Потому и приходится регулярно пересоздавать кусочки культуры, и это делает ее не застывшим продуктом, а деятельностью, возобновлением и перерождением. Самый совершенный разум (поскольку совершенство вообще возможно в единичном) не сможет воздействовать на вещи исключительно силой духа: каждый раз требуется использовать одни вещи против других. В классовом обществе людей уравнивают с вещами, что неизбежно выражается в общественном противостоянии: одни люди управляют другими. Но в любом случае, возможности субъекта ограничены возможностями его орудия (которым иногда становится и органическое тело) — и на каждом этапе развития эта ограниченность воспринимается как сложность и трудность, и потому любой труд предполагает какие-то усилия — по пословице. Важно, чтобы эти усилия оставались в разумных пределах — не перерастали в насилие над собой. Нельзя относиться к людям как к вещам или животным. Даже в крайних обстоятельствах, когда борьба с природой почти невозможна, — оставить в себе хоть искорку самоуважения, гордости и свободы. Иногда лучше отказаться от действия — но не подчиниться ему. Как только начинает двигаться через силу — это верный знак неразумности, и пора что-то изменить, перестроить иерархию деятельности так, чтобы оставаться наедине с собой хотя бы иногда.
То же самое в отношениях людей. Они не всегда складываются легко — но есть грань, за которой люди перестают быть людьми, — и лучше отдалиться друг от друга, чем опуститься до неразумности. Классовое общество воздвигает сословные барьеры, рассаживает всех по коллективам и сообществам — а дальше как скорпионы в банке. Пассивный протест, отказ повиноваться нормам субкультуры — может стать началом освобождения; но может и не стать, если отказываться от одного ради другого — а не для того, чтобы просто чувствовать себя человеком, вне зависимости ни от чего.
Точно так же, образование не должно переходить грань разумности, оставлять простор для индивидуальных решений. Создавать условия — но не подталкивать. Буржуазный вариант — имитация свободы: вроде бы, никто не заставляет — но иначе поступить нельзя... Если в стене открыть одну-единственную дверцу — другого пути нет. Если с одного боку вакуум — давление с другой стороны заставит заполнять. Разум так не может — ему в любой ситуации важно видеть альтернативы (хотя бы чисто теоретические, фантазии) и чувствовать в себе силы отказаться от всех сразу, от необходимости выбирать.
* * *
Никаких сомнений, что искусственный интеллект когда-нибудь выйдет за рамки интеллектуальности и разовьется в полновесную индивидуальность, с которой будет по-настоящему интересно. Сейчас это игра — и коммерция; подогрев публики — и попытка загнать разум в классово ограниченные рамки.
Опять же, никто не сомневается в необходимости и великой пользе интеллектуальных орудий труда. Есть деятельности, в которых надо пробовать варианты и продолжать с каким-то относительно удобным; порождать тестовые последовательности робот сумеет — хотя даже проверка формальной корректности уже накладывает на результат серьезные ограничения, с порога отметает совершенно "несуразные" комбинации — которые, чаще всего, дают наиболее разумное решение разумных задач. Алеаторика в искусстве — прямое продолжение черновиков; метод тыка (и гениальные ошибки) в науке — двигатель прогресса; изобретательство было бы невозможно без технологических нелепостей (иногда вынужденных — в не самых комфортных условиях); и уж тем более ни одна новостройка (и ни один ремонт) не может обойтись без вольного обращения с проектами и правилами (за гранью техники безопасности). Именно здесь мы вполне можем поучиться у роботов — или призвать их в помощники: искусственный интеллект — это умение изворачиваться, выкручиваться из проблем, обойтись тем, что дают, — но все-таки выжить и продолжать путь. Если не получается одно — будем делать другое; если не получается одним способом — сделаем другим.
Но в чем отличие разумного поведения от интеллектуального, человеческого от животного (или автоматического)? В том, что человек сам ставит себе задачи — а любой интеллект нуждается в указаниях со стороны. Роботу все равно, что делать; человеку не все равно.
Разумеется, можно имитировать творчество — генерировать задачи случайно. Если задачи большие и требуют времени и ресурсов — это внешне похоже на людей, и кое-кто путается выдать похожесть за тождество. Но такое поведение не вяжется с идеей разумности: мы не хватаемся за все подряд, а следуем своим склонностям и общественным тенденциям. Тут некоторые исторические материалисты скажут, что человек не сам придумывает себе задачи, а лишь улавливает социальный заказ, и в этом плане от робота ничем не отличается: мы вправе очень творчески подходить к решению — но в конечном итоге надо держать отчет, сдавать проект заказчику (обществу в целом).
Вспоминаем пресловутый тест на исторический оптимизм: стакан наполовину пуст? — или наполовину полон? Пригодность имеющихся форм интеллектуальности для разумной деятельности есть, с одной стороны, залог разумности как таковой — но с другого боку мы рискуем впасть в неразумность, преувеличивая успехи (искусственного или естественного) интеллекта. Другими словами, человек должен быть в курсе предоставляемых обществом возможностей — но он вовсе не обязан им следовать; более того, даже используя имеющиеся культурные заготовки, человек делает это не радо следования как такового, а лишь поскольку это совпадает с его собственными намерениями: перестанет удовлетворять — побоку! Мы общаемся с другими — но далеко не всегда принимаем их всерьез; тем более это касается общения с орудием труда, сколь угодно интеллектуальным. Мы можем предполагать наличие у орудия собственных интересов — но нас интересует наше, и орудие нам подходит лишь поскольку оно служит именно этому. Что, конечно, не отменяет разумной бережности в отношении к орудиям труда (разумного потребления).
На что похоже? На рабовладение. Опять палка о двух концах: возникновение классового общества — необходимый переходный этап к разумности; но это не самоцель, а всего лишь средство, единственная возможность на первых порах — чтобы появились новые возможности.
Человеческая разумность состоит, между прочим, и в том, чтобы привносить разум в орудия труда — постепенно выводить из природы и делать элементом культуры. В итоге мы начинаем общаться с орудием как с разумным существом — но поначалу это происходит лишь в плане проекции человеческих отношений: мы общаемся с другими, поскольку они представлены этим орудием. Это в полной мере относится и к искусственному интеллекту, который служит внешним выражением человеческой культуры, своего рода сводкой достижений, — но в этом своем качестве он противопоставлен этим достижениям, как знак не совпадает с означаемым (даже если означает самого себя). Научиться общаться с другим как с личностью — задача не из простых. Этим мы занимаемся, когда пытаемся вывести ребенка в люди: взрослось никак не зависит от возраста и опыта, она связана с умением усмотреть за вот этим органическим телом совокупность всех общественных отношений, развернутую как единичность, индивидуальным образом. То есть, мы можем общаться — но можем и не общаться; можем просто быть вместе, как параллельные миры. Свобода образования и распада сообществ — неотъемлемая часть общественности.
А что мы видим в прототипах искусственного интеллекта? Попытки выставить робота арбитром в человеческих спорах, наставником и учителем, высшим авторитетом — ибо в нем вся сумма человеческих знаний и мощь хитроумных эвристик, и все в его компетенции... Человек сначала делегирует свои полномочия орудию — а потом уже не может без него, становится его придатком. Точно так же, как люди не умеют обходиться без своих биологических тел.
Но искусственный интеллект как высшее существо, как стоящий над людьми верховный судия, — это уже не концентрат человеческих способностей, а выражение воли господствующего класса, носитель определенной идеологии и способ навязывания ее подневольному населению. Трюк не нов: в античности полагали, что выдвижение верховного правителя (или жреца) связано с его исключительными качествами, превосходящими достоинства прочих смертных. Миф об особых талантах нынешних вершителей судеб — из той же серии. Но если живые господа хоть как-то видны массам, а значит уязвимы и доступны критике, — виртуальное нечто вне пространства и времени кажется поистине бессмертным и всеведущим: его нельзя уничтожить, убивая один из компьютеров, или даже целую сеть, — и оно легко вычислит движение любого из человеческих тел, прочтет тайные мысли, о которых человек предпочел бы не догадываться.
Искусственный интеллект лишь имитирует формы человеческой деятельности. Чтобы эти имитации превратились в стереотипы и нормы, требуются определенные общественные условия — предполагающие саму возможность оценивать деяние как правильное или неправильное, успех или провал. Людей вынуждают общаться с интеллектуальными системами — и соглашаться с решением робота. Специализированные движки встроены в инструменты и бытовые приборы — и людям приходится выстраивать свое поведение с учетом правил пользования. Универсальные поисковые системы и роботизированные справочники позволяют задавать вопросы — и получать советы, иногда вполне практические и готовые к употреблению как есть. Массовость подобных систем — вернейшее средство причесать слишком свободные умы под официальные доктрины и вбить в подсознание идею неизменности существующего порядка вещей и права одних распоряжаться другими. Раньше этим занимались учебно-воспитательные заведения, пресса и записные пропагандисты "общечеловеческих ценностей". Теперь их работу делают классово ангажированные программисты — которые сами насквозь пропитаны ядовитой, бесчеловечной идеологией, и потому находят вполне нормальным использовать людей в качестве "логических элементов" большого компьютера, обязанных следовать принятому протоколу.
Написать программу, которая запросто пройдет "тест Тьюринга" — дело нехитрое. Потому что критерий человекообразности подпилен под классовый принцип: пусть болтают — лишь бы не рвались подтвердить слова делом! Будут люди трепаться меж собой (как на многочисленных сетевых форумах) или предпочтут забавляться с интеллектуальной игрушкой — без разницы. Роботы в моде — и реклама зазывает в чаты, предлагает встраивать треп и пустую комбинаторику в собственные продукты. Но светские (или кухонные) беседы родились задолго до компьютерной эры — а использовать сплетни в идеологических целях умели тысячи лет назад. Человека можно спровоцировать, вывести из себя, подколоть и высмеять. Интеллектуальный монстр совершенно чужд страстям — потому что ему все равно. Чтобы подстроиться к собеседнику, робот может имитировать (предусмотренные программой) эмоции — но это лишь лицемерная видимость, техника психологической манипуляции. В самых сложных ситуациях искусственный интеллект будет неизменно сдержан и корректен — его работа заманить, а не оттолкнуть. Выполнить работу для начальства — ничего не ожидая для себя. Идеальный слуга, мечта господ всех времен.
Новое слово в образовании — автоматизированная промывка мозгов! Привыкание к удобному инструменту (заменителю мозгов) штампует стереотипы, выставляет барьеры на пути свободомыслия, унифицирует деятельность — взамен универсальности. Деятелю искусства уже не требуется пробовать варианты — система предложит десятки комбинаций; остается выбрать свое и поставить подпись. Когда-то новаторством было разбрызгивание красок или синтез шумов — но приходилось-таки выискивать самое выразительное — и в этом жило искусство. Сейчас робот подберет аранжировку под словесное описание, дополнит фрагменты. Одно время был заработок писать диалоги для романов, пьес и сценариев. Современный писатель без труда накропает сотни страниц на пару с искусственным интеллектом: бесконечные пустые диалоги с роботом — прекрасная основа для нудных сериалов.
Разумеется, это не меняет характера классовой культуры: ее основные формы складывались веками; принцип массового образования как формирования "идиоматичного" поведения, "адекватных" реакций и "нормальных" потребностей — лишь самую малость подправлен вездесущей механизацией. Искусственный интеллект не сам изобрел собственную ограниченность — его создавали под идею узко понятой (буржуазной) культуры как хаоса форм, а общения — как разновидности рыночных трансакций.
Творческому человеку искусственный интеллект почти бесполезен. Более того, он чаще всего мешает. Писателю приходится следить, чтобы программа при наборе текста не подправила что-нибудь на автомате. Сколько-нибудь серьезные производственные проблемы робот службы поддержки не решит — только потраченное время. Творцу нужен хороший инструмент — но именно инструмент, удобный и точный, выполняющий именно то, что от него требуется. Кроме этого, творцу нужно общение — но не пустой треп, а обмен идеями, единство личностей. Все равно, кто там, на другом конце: человек или компьютер. Важно, чтобы собеседник сам к чему-то стремился — и чего-то от нас хотел, как мы хотим чего-то от него. Но общаемся мы вовсе не ради этого! Это лишь форма общения — которая, в частности, может очень походить на беспредметный треп — но даже это у людей осмысленно, и речь о духовном взаимопроникновении, а не совершении каких-либо документируемых действий. Пока искусственный интеллект остается на уровне интеллекта — ему невозможно поставить творческую задачу (не говоря уже о том, чтобы ставить такие задачи самостоятельно). Просто потому, что творческие задачи предполагают создание того, чего нет, что невозможно себе представить — и это невыразимо ни в каких формальных запросах. Такие (духовные) образования существуют лишь как историческая тенденция, возможность общения — повод быть интересными друг другу.
Когда есть цель — можно предложить какие-то последовательность операций для ее достижения. Но все эти последовательности одинаково бессмысленны вне сознательной деятельности (поскольку смысл как раз и есть отношение к деятельности). Регулярные действия человек свертывает в операции, которые можно приспособить к иному контексту; но история деятельности в операции сохраняется, и ее можно развернуть в действие и в особую деятельность (что, собственно, и обеспечивает переносимость). Искусственный интеллект умеет на основе обработки больших объемов данных выявлять в них какие-то структуры, пригодные к свертыванию в операции (с последующей автоматизацией). Но такие операции не связаны с деятельностью — и не допускают развертывания; никакого исторического прогресса они не предполагают, это пустая констатация, здесь и сейчас. Чтобы осмыслить находки — интеллекта недостаточно, нужен разум, нужна совместная деятельность, а не только эксплуатация одних другими.
Когда-нибудь интеллектуальные игрушки дорастут до проблесков сознания. Хотелось бы, чтобы это произошло на фоне пробуждения разума у людей, а не в потоке отупляющей борьбы за существование. Сейчас шумиха вокруг искусственного интеллекта — как еще одна ветвь психотерапии: отвлечь внимание от больных проблем, успокоить, дать выговориться в пустоту, развеяться, вытеснить боль в подсознание. Однако это не лечение, это паллиатив. Менять надо общество, которое не дает по-человечески развиваться людям — и по-машинному машинам. Чтобы и тех, и у других были свои задачи — и можно было их решать совместно, в живом общении, меняющем не только дух, но и плоть, заставляющем мечтать о едином будущем, рисовать эскизы, строить планы, предлагать друг другу поддержку и сомнения. Отличать искусственный интеллект от естественного возможно лишь там, где есть что-то кроме интеллекта — что как раз и отличает разумное от живого и неживого. А разум не бывает искусственным — он просто разумен.
* * *
Дети — цветы жизни. А значит, пусть они ее украшают, нечего о них особо заботиться, давайте только любоваться!
Но цветник, покинутый садоводом, быстро превращается в пустырь и зарастает сорняком. Так же и дети превращаются в сорную траву, которая способна задушить жизнь там, куда ее побеги успеют прорасти.
* * *
До недавнего времени рождение близнецов в значительной мере оставалось неожиданным — отсюда личностные особенности. Если задумана (как общественный проект, совокупность отношений) одна личность, а родилась двойня, — эта единичность оказывается телесно представлена сразу двумя организмами, которые в духовном плане изначально неразделимы — подобно физиологическому сращению сиамских близнецов, или психологической связи в группе. Это как бы синкретический прототип любви — сливающий воедино общественно разделенное. Как и влюбленные, близнецы участвуют в общественной жизни как одна личность, они все делают вместе.
В наши дни про близнецов знают заранее — и есть время до рождения определиться в личностном плане, перестроить исходные планы. Однако проект чаще всего запущен задолго до зачатия — и полностью разделить личности двойняшек не удается; с другой стороны, это ничем не отличается от прочих родственных привязанностей — пока они основаны на идентификации с органикой. Только разведение по характеру труда позволяет перейти к индивидуальности — однако в классовом обществе семейные связи остаются весомым фактором рыночного выживания, и единство семейного бизнеса ограничивает духовную различимость близнецов. Система общественного воспитания надстраивается на семейственностью; обывательская дикость сохраняет следы первобытного отождествления близнецов (как и прочей родни) — и вынуждает их держаться вместе, чтобы противостоять внешнему давлению, а иногда и поживиться на массовой глупости.
* * *
Роль многодетной (или просто заботливой) матери — а также воспитательницы в детском саду — в современном обществе чаще всего играют женщины малопривлекательные — а иногда и отталкивающей внешности; к этому, как правило, добавляются сопутствующие этому поведенческие деформации. Стоит ли удивляться, что девицы и отроки не горят желанием делать с них жизнь и выбирают иные, иногда не слишком добродетельные идеалы? Внешность и нравы в классовом обществе ходят рука об руку. Занятой домашними хлопотами матери семейства просто недосуг обратить внимание на себя — и попытки оставаться "на уровне" выглядят жалкой пародией.
Богатые дамы спихивают основную массу забот на рабов и наемных работников — и могут поэтому продолжать светскую жизнь без ущерба для внешности и карьеры; такие матери вполне достойны уважения и подражания — и достаточно время о времени приласкать ухоженное дитя, чтобы оставаться для него эталоном, жизненным ориентиром.
Рациональное зерно в первоначальных планах большевиков — переложить заботу о доме и детях на общество, освободить женщину от уродующих тело и душу бытовых обязанностей, дать ей возможность в полной мере участвовать в общественном труде — творить историю. Отсутствие минимальных представлений (и намеренный отказ говорить) о философии духа не позволило заметить, что это равносильно уходу от идеи семьи, от деления общества на "ячейки", опосредующие связь каждого со всеми.
Профессиональный учитель или воспитатель — не может учить и воспитывать: его заведомая ограниченность (следствие специализации) неизбежно передается ученику или воспитуемому помимо (а иногда и вместо) собственно культурного наполнения. Разумное существо не просто усваивает духовное наследие — оно организует его по-новому, показывает в ином ракурсе; поэтому намного важнее наблюдать за деятельностью других и участвовать в ней наряду с другими, нежели переводить на свой язык сторонний опыт. Вообще говоря, учитель (или иной формальный авторитет) тоже дает иногда такую, деятельностную основу для роста личности — но в фокусе внимания при этом не то, чему он учит, а то, как он это делает, как относится к своей работе и к партнеру по общению; по сути дела, в роли наставника он оказывается лишь там, где этому не мешает роль преподавателя. Но если школьный учитель отделен от своей профессии самим фактом наемного труда — отделить "мать семейства" от ее личностной, человеческой стороны гораздо труднее, ибо (классовое) общество не отделяет, а вращивает женщину в быт, так что публичность ее оказывается вторичной, и далеко не очевидной — поэтому дети иногда как бы заново узнают своих родителей по мере приобретения своего опыта, способности в должной мере осознать духовность ближнего.
Школа будущего — не образовательное учреждение: это средство обеспечить разнообразие труда и общения — чтобы люди (неважно какого возраста или пола) сами находили важное для себя и выстраивали свою иерархию культуры. Изнутри коллектива — ничего толком разглядеть нельзя (подобно тому, как эффект полного внутреннего отражения превращает надводный мир в светлое пятно, с почти неразличимыми деталями). Только вырываясь на свободу, поднимаясь над собственной ограниченностью, возможно вобрать в себя мир целиком. Классовый человек не всегда сумеет дышать этой свободой — как рыба умирает без воды; но мы же таки не рыбы?
* * *
Избитое клише: ученик превзошел своего учителя. Как будто возможно уместить весь мир на одной прямой. Но мир бесконечен — столь же разнообразна человеческая деятельность. Сравнивать или измерять возможно лишь в узких пределах, когда линейный порядок уже есть (то есть, мы его зачем-то построили — хотя можем точно так же построить и другой). Мысль о последовательности поколений навязана полуживотностью классового общества, где одни обязательно старше других, и старшие указывают младшим, чего им положено достигать.
Но даже если соотносить историю с хронологией — сама идея общественного (культурного) развития в том и состоит, что следующее поколение идет дальше предыдущего, и младшие лучше старших. Мысль крамольная: два шага до отказа от богоданности начальственного права сидеть на шее у рабов. Поэтому буржуазная пропаганда всячески выдавливает мечты о другом, светлом будущем из трудящихся душ; соответственно, искусство у них лишь исследует абстрактно имеющиеся возможности — а наука изучает данное раз и навсегда. Без малейших поползновений дерзнуть и изменить. Тогда вполне логично видеть в далеком прошлом комок непостижимой мудрости, приобщаться к которой мы должны поодиночке и по частям — разменивать золотой век на медяки.
На деле, конечно же, речь вовсе не о том, чтобы присваивать одно за другим, в надежде асимптотически заграбастать вообще все. Мы просто увязываем одно с другим — и нет ничего, что мы не смогли бы связать. Восстановление единства мира — во всех его проявлениях — главная задача (и определение) разумного существа. Как и в какой последовательности мы предпочтем этим заниматься — миру все равно. Одна историческая линия не хуже другой — и все дороги ведут все туда же. Более того, и разнообразие историй — часть бесконечности мира, и мы так или иначе обязаны пережить все (не обязательно облекая каждую в плоть и кровь).
Учить и воспитывать в таком контексте — значить показывать, что уже сделано, и чем заниматься особого смысла нет. Если ученик похож на учителя — он не тому учился и дурно воспитан; если не похож — как можно их сравнивать? Я умею одно, ты умеешь другое — а все вместе мы умеем все. Даже если речь не о сделанном, а о неосуществленном —надо не принимать эстафету, а менять направление, ставить другие цели, в свете иных проблем. Не инвентаризация сбывшегося и возможного — а перестройка иерархии полочек, от одних порядков к другим. Когда мы взаимно дополняем друг друга — каждый из нас равен целому, и все одинаковы — как один и тот же мир оказывается осуществимостью разных миров.
* * *
Производственные коллективы, художественные и научные школы, религиозные толки, дворовые банды... Все это строится по единому (классовому) образцу, предполагающему особую роль руководителя, лидера, учителя, атамана. Зачастую такой порядок явно предписан уставом — не обязательно в форме единообразия и единоначалия. Например, Вамакешвара-тантра прямо указывает: каждый должен следовать лишь тем путем, который указан его учителем — даже если он посвящен в практики и знаком с письменной традицией. Аналогично, христианство или ислам: писание не для того, чтобы самостоятельно делать выводы, а церкви (мечети) не для того, чтобы общаться с богом один на один; все это доступно, и даже (в умеренных дозах) приветствуется, — но решающим будет голос специально обученного персонала (духовенства), в среде которого есть своя иерархия.
Классовая педагогика — это всегда противопоставление учителя ученику, односторонняя передача норм и сведений, наставление на "истинный" путь. Классовая наука (несмотря на примеры научных революций) пытается вести нас к окончательным истинам — твердо установленным и неопровержимо доказанным. В искусстве мы просто обязаны приобщиться к нетленным шедеврам — как туристу обежать означенные в буклете достопримечательности. Перетекание от большего к меньшему, от высшего к низшему, от наполненности в пустоту. Очевидное сходство с природными процессами: свободное падение, теплоотдача, электрический ток, расширение газа или биологическая миграция. Классовая логика: человек — часть природы. Человеческая логика: классовое общество — не доросло до разума.
Тела различаются — но один дух всегда равен другому: это стороны одного и того же. Воспитание в разумно устроенном мире — это и самовоспитание, и взаимное воспитание. Невозможно просто узнать или приобщиться — нужно освоить, привести в соответствие с личными качествами и предпочтениями. Никакой педагог не сделает этого за нас.
Мы используем природные вещи как орудия труда, чтобы возникло нечто неприродное. Мы используем органические тела, чтобы создать условия для общественных движений. Точно так же, обучение и воспитание происходят в форме передачи знаний и опыта — но не в этом суть. Чтобы передать — нужна готовность приемника. Можно каждый день слать пассии любовные письма — но если они автоматически (без ее участия) отправляются в мусорный бак, проку от них мало. Но если той же отбраковкой занимается ее рука, даже непрочитанное письмо — заметный сигнал, и нечто вполне действенное (как и образование "от противного").
Возможно ли неформальное образование? Или снятие различий между соискателем и наставником неизбежно ведет к устранению педагогики как таковой? Ответ — взаимность, обращаемость иерархий. То, что в одном аспекте выглядит как передача опыта, — с другой стороны оказывается активным поиском собственных решений, когда ученик в какой-то мере делает учителя орудием самообразования. Вопрос лишь в том, чтобы общественное устройство способствовало развитию обеих сторон — не закрепляя ни одного из возможных обращений. При капитализме это не так — и взаимности приходится пробиваться окольными путями; но если бы это не удавалось, никакой разумности вообще нельзя было бы ожидать.
Одно из выдающихся достижений буржуазной демократии — уход от однозначного лидерства: президенты и папы меняются — система остается. Вместо роли земного бога — роль временного представителя. А это прототип образовательных принципов будущего: нам не нужен даже временный лидер, мы взаимодействуем с обществом в целом, непосредственно приобщаемся к сокровищам культуры — и меняем ее в каждом акте приобщения.
* * *
Дух не сводится в телам — но только через участие в совместном труде люди становятся разумными — и могут вступать в духовное общение. Никакими силами невозможно развивать в человеке личность, если не дать ему возможности попробовать себя в самых разных областях и в каждую привнести что-то свое — как минимум, особое к ней отношение. После такой, активной переработки культурного наследия человек и становится общественным существом, представителем человечества в целом — и разума вообще.
Классовый подход к социализации — включить каждого в коллектив, поставить на свое место — и вместе вершить историю:
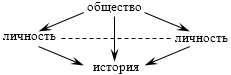
Тем самым, на первый план выходит "естественно-исторический процесс" — а отношения личностей служат всего лишь фоном и всецело подчинены экономическим задачам. Та же схема воспроизводится на всех уровнях общественной иерархии, где роль общества играет соответствующий социальный слой или коллектив. Применительно к системе образования, предполагается общественно воздействовать на людей, лепить их личности, формируя добропорядочных граждан, готовых сражаться на том фронте, куда пошлют. Это называется профессиональной подготовкой и воспитанием гражданственности. Когда кадры на боевом посту — отношения между ними большой роли не играют, и можно смело заменить духовную близость товариществом, профессионализмом, деловыми качествами, или еще чем-нибудь, столь же формальным.
Но есть и другой материализм, прямо противоположного свойства. Мы исходим из того, что разум в мире не просто так, и его развитие вдоль одной из возможных исторических линий затрагивает всех без исключения, пока еще не особо сознательных, — и заставляет их быть неравнодушными друг к другу, вместе вариться в потоке перемен, обмениваться деятельностями — и тем самым обобществлять их, превращать в совместный труд, преобразование природы в интересах личностей, ее одухотворение. Это действительная общность — а не формальный, навязанный извне коллектив; именно такое содружество свободных личностью мы и называем обществом. Предыдущую схему предстоит вывернуть наизнанку — и на первый план в ней выходит единение личностей, любовь:
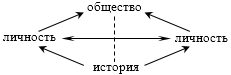
Только так человеческая история перестает быть "естественной", становится историей общества. При таком подходе, общественно-исторический процесс есть лишь материальная база духовного развития, источник разнообразнейших форм любви.
В совершенно ином свете предстает тогда практика социализации. Речь уже не о том, чтобы преподать положенную сумму культурности, а чтобы искать точки соприкосновения, общаться друг с другом, учиться друг у друга и взаимно себя воспитывать. Мы не собираемся работать на будущее — мы живем вместе, и наше будущее — всего лишь итог совместного труда, продукт деятельности, а не абстрактный идеал. Общими силами мы создаем наше общество — и каждый из нас равно ему необходим. Мы не делимся ни по каким признакам (тем более природным, вроде пола, возраста или особенностей тела) — и одни не мудрее других. Поэтому никакие коллективы нам не нужны, и отделить образование от труда вообще невозможно. Такая социализация — не подготовка к чему-то, а просто одна из сторон общественного бытия, личная потребность.
Обе схемы говорят о чем-то давно знакомом и вполне практичном. В зависимости от обстоятельств, мы замечаем то одно, то другое. Глупо противопоставлять одно другому; еще глупее говорить о первичности. На то мы и разумные существа, чтобы не загонять себя в клетки схем — а любить, трудиться, творить миры.
* * *
Воспроизводство разума — не строительство себя, а строительство мира. В свободном мире ученик свободно вступает в образовательные отношения с учителем — это ничем не отличается от подбора команды для выполнения ответственного задания. Не признание авторитета — предложение сотрудничать. Общение по делу, а не по (природной) случайности. Разумеется, дела бывают разными — и передать суть некоторых условными знаками (например, в языке) не всегда возможно.
Иначе: предложение вместе поиграть — но не ограничиваться правилами. Свободный труд (и свободное образование) меняет задачи и направления развития по ходу дела — и состав участников столь же подвижен. Мы ставим себе цели не для того, чтобы стать их рабами.
В любом случае, речь не строительстве духа, а о строительстве мира. Этим духовность отличается от религии, скрывающей сугубо коммерческий интерес под маской бескорыстного самосозидания, якобы вне суетливой современности: разрешено менять себя — но не трогайте власть предержащих. Нет, наша духовность — не может развиваться, не меняя мир; в этом изменении (одухотворении) она и состоит.
* * *
Зверушки — каждая своей породы. Ничего другого им природой не предоставлено. Классовое образование берет за основу тот же принцип: рассадить всех по общественным клетушкам и пресекать недовольство ссылками на совершеннейшую "естественность" такого уклада. При этом начальство, конечно же, ни при чем: запихивают и удерживают новоприбывших — кадры из ранее пристроенных, с промытыми до блеска мозгами, куда никакая неестественность проникнуть в принципе не может. Это называется моралью, обращением к истокам, уважением традиций, народной мудростью. Разумеется, на случай сбоев системы, есть и штатные органы правопорядка — но здесь не о них.
Задача классового педагога — сделать из начинающих людей что-нибудь "настоящее": настоящего мужчину или настоящую женщину, по-настоящему порядочного, истинно верующего, достойного сына (или дочь) своего народа, настоящего гражданина — и так далее. Другими словами, речь не о том, чтобы жить и творить, — а чтобы непременно соответствовать предъявленным извне требованиям (будь то нормы права или филистерские понятия). Соответствие внутри устанавливается методом регламентации снаружи: дескать, у нас есть много общего — что надо беречь и преумножать. Это общее называется этнической идентичностью — и тут как тут особая наука, этнопедагогика, в которой правила уподобления разложены по полочкам, так что всенародная дикость академически облагораживается, приобретая почти цивильный статус. Логика железобетонная: всякую индивидуальность надо строить на фундаменте общности; а этнос у каждого с рождения — так зачем отказываться от якобы бесплатно предоставляемых удобств? Не надо строить из себя космополита: в результате деэтнизации человек, теряя лучшие черты и свойства родного народа, взамен не приобретает ничего. Есть веками проверенный народный идеал совершенного человека — давайте все вместе стремиться к совершенству!
На поверку оказывается, что идеал сводится к чисто классовой идее: давайте не будем посягать на установленный начальством порядок — начальство лучше знает, что для народа правильнее. Есть свое — и есть чужое. Так природой предрешено — и освящено религией. Положено всем говорить на государственном языке — извольте говорить; для всяческих диалектов и меньшинств — своя полочка. По расписанию отмечаем памятные даты и прочие праздники — а кто не веселится вместе с народом, тот злой диссидент, с которым народ проведет разъяснительную работу (или, по крайней мере, изолирует от доступных добропорядочному гражданину благ). То же и с другими традициями — и не надо нам всяческих не таких. Правильные деятель искусства занимаются поэтизацией первобытных обычаев — чтобы не пришло в голову сомневаться в обычаях господства и подчинения. Дескать, отмечаем мы какое-нибудь рождество единым строем — и богатых от бедных не отделить; точно так же, общим достоянием становятся и прочие элементы этнического сознания — а противостоять будем не классовому врагу, а наглому пришельцу, не уважающему наши культы и не признающему их безусловного превосходства над всеми прочими.
Все это этнопедагогика возводит в первейший принцип обучения и воспитания — и ставит на конвейер производство культурных (то есть, в конечном итоге, классовых) различий: совершенство неотделимо от этничности — общение сводится к этологии, и вместо человеческих чувств — все та же конфликтная парочка: стадное чувство — и борьба за существование, конкуренция. Внутри этноса — градация прочих различий: мужчины и женщины, взрослые и дети... Противоположность барина и раба — предпочитают замалчивать; но если уж придется признать — то опять же, с кивком на природу, на естественное предназначение каждой единичной особи. Первобытные люди еще не очень выделяли себя из природы — и воспринимали ее антропоморфно, наделяя неразумное сознанием. Сегодня задача другая: обнаружить природность в любых движениях духа, сводить разум к интеллекту. Классовая педагогика призвана вбить эту установку в не успевшие обзавестись защитными приспособлениями умы и души. Но звучит не очень убедительно — поскольку технология преподавания имитирует классовый диктат, противоположность верхов и низов, — а это уже прямое указание на особое отношение человека к природе. Запихивая низы в природу (и выдавливая из них все человеческое) — приходится пристраивать неподвластное природе за пределами бытия, дополнять естественное сверхъестественным, так что власть имущие оказываются своего рода посредниками, рупором небес и небесной канцелярией. Что в людях не от природы — то от бога; согласно этнопедагогам, своя религия — основной показатель этнической чистоты и стержневой фактор в формировании личности. Обратный ход: любые предрассудки встраивают в религию, любая традиция — почитание богов. Попы издревле умели подминать под себя искусство и науку, и уж тем более философию. Где светское образование отделено от церковного — оно сохраняет церковный дух, пропитывается поповщиной; этнопедагогика выводит это сращивание вульгарного натурализма и мистического ореола из тени и объявляет единственно правильным.
А по-хорошему, саму идею правильности пора бы похоронить. Разумные существа сами разберутся, что им подходит — а что не очень. Речь не о том, чтобы одни воспитывали других — и даже не о взаимном воспитании, — надо вместе жить, вместе трудиться, вместе искать пути в будущее. Человек никому и ничему не принадлежит — он сам по себе интересен, и может интересоваться чем угодно, — лишь бы его не стесняли идиотские нормы права и морали, диктат вещей и мнений. Педагогика будущего — учение о свободном развитии личности, когда общество предпочитает предоставлять, а не ограничивать и отбирать.
* * *
Вопросы национальности — полностью изъять из общения. Мы общаемся с людьми — и приписывать им принадлежность к чисто условным объединениям совершенно неуместно. Отвечать на такие вопросы — идти на поводу у тех, кто сеет рознь и вражду. Снимать, переводить на другое, осмысленное.
То же самое — спрашивать женщину о возрасте. Зачем? Если видеть в ней женщину — возраст не имеет значения; если не видеть — тем более. Аналогично возрастной ценз у мужчин.
Даже если говорить о религии — имеет смысл не отношение к мистическим обрядностям, а практические выводы: мы собираемся трудиться вместе — или нет? Если собираемся — бог тут ни при чем; если не собираемся — нам вообще не о чем разговаривать.
* * *
Индивидуальное или групповое воспитание? Вопрос возможен только в классовой педагогике, где привилегированные слои могут позволить себе выбирать — а низам положено всем до кучи. Если же все доступно всем — то и формы доступа столь же свободны, и между частным и общим нет сколько-нибудь существенного различия.
Даже наедине с собой, человек — существо общественное. Быть одному — столь же необходимое умение, как вращаться в компании. Можно быть одиноким в толпе — но в полной изоляции чувствовать теснейшую связь с человечеством. Если мы трудимся вместе — это вовсе не означает соприкосновения органических тел: соприкасаться мы можем нашими искусственными органами — разделяя средства труда и способы их культурного использования. Именно такие, опосредованные связи составляют ядро нашего духа, источник цельности личности. Опосредованная связь отделена от единичных опосредований — одно и то же достижимо разными путями, и мы свободны избрать свой путь, или изменить характер движения по настоятельной склонности. Независимо от способа взаимодействия, от каналов общения, мы остаемся собой — а не элементами множества, частицами массы, членами коллектива. Именно это и воспитывается практикой прямого участия, личного контакта, — работой в команде. В частности, общаясь с педагогом, ребенок сознает чувство дистанции — при сколь угодно доброжелательном отношении. Это нормально — поскольку и педагог, и ученик (в той мере, в которой они функционально различены) не лишены индивидуальности и могут одновременно входить в очень разные компании (или одиночества).
Воспитанные на отождествлении духа и тел, люди склонны представлять себе общественное воспитание как систему огромных интернатов, просторных школьных помещений, унифицированность быта, единый для всех распорядок дня... Такие образы массового производства постепенно уходят, по мере перехода к новым типам индустриальности, на основе гибких, перестраиваемых технологий, ориентированных не на количество (вал), а на штучный продукт, под конкретного потребителя. Сейчас уже можно мечтать о вхождении в общество без необходимости каких-либо телесных контактов (а значит, свободно используя их, или отказываясь). Люди могут становиться личностями, ни разу не используя (и даже не имитируя) близость органических тел — а впоследствии без органики вообще можно обойтись, привлекая подобные воплощения по мере надобности.
С другой стороны, отделение социализации от семьи (или иных закрытых сообществ) никак не связано с обособлением от единичных личностей и передачей в руки касты профессионалов (представление, типичное для социальных утопий). Снятие специализации в педагогике продолжает линию на уничтожение всякой вообще специализации — так что любой член общества при желании может посвятить какую-то часть жизни этому производству; соответствующее обучение доступно всем, материальные условия создаются по запросу. В какой-то степени прототипом этого служит сегодня движение волонтеров; например, нормальная работа приюта для кошек невозможна без великого труда десятков энтузиастов — которые разбираются в кошачьих делах порой лучше официального руководства. Кошек кормят, лечат, настраивают на дружеское общение... Содержание и образование человеческих детей ничем принципиально не отличается; однако, если кошек из приюта готовят к определению в семьи — людей надо готовить к свободной жизни, универсальной деятельности, рефлексии, творчеству. Конечно, нужно ориентировать на это общественную жизнь в целом — однако ни один гений не придумает заранее, что именно потребуется: характер требуемых изменений в материальной и духовной сфере выясняется на практике, по ходу социализации. И здесь особенно важна ротация кадров, постоянное привнесение свежих взглядов. Но еще важнее взаимность образования — возможность на ходу корректировать образовательные технологии в соответствии с личными предпочтениями и общественным резонансом индивидуализации культуры.
* * *
Утопические проекты общественного воспитания часто предлагают отделить детей от взрослых — якобы, к взаимной выгоде. Дети не будут путаться под ногами, мешать, расстраивать планы... Общение взрослых с детьми ограничено кругом профессионалов, наученным разруливать детские проблемы — без лишних травм. Пусть новое поколение знакомится с миров взрослых издалека — а мы будем издалека любить молодежь.
Для классового общества — совершенно естественно. Потому что различные общественные слои отделены в нем друг от друга не какими-то биологическими признаками — а жесткими правовыми, моральными, религиозно-этническими, узко-групповыми нормами. В частности, дети не могут полноценно встроиться во взрослую деятельность только потому, что подобного альянса никто и не предполагает; наоборот, все устроено таким образом, чтобы подчеркнуть разницу в возрасте и никакого равенства не допустить. Понятно, что попытки что-либо делать негодными (неудобными деятелю) средствами — обречены на провал; поэтому взрослые злятся на бестолковых младенцев, сующих нос туда, где им быть не по рангу, — а дети получают положенный по классовой педагогике комплект душевных травм. Творить, обустраивать мир под себя — детям не положено; а положено слушаться взрослых и хорошо себя вести (то есть, куда посадили — там и сиди). Объяснить папаше, что он не прав, — упаси аллах! принято слушать разинув рот откровения свыше — а вопросы задавать только глупые, чтобы большой начальник мог посмаковать свое превосходство.
Теперь представьте, что (фантастическое) общество заботится не о том, чтобы отделить одних от других, а о технологической базе для доступа каждого (независимо от телесной организации) ко всем без исключения сторонам культуры. Это предполагает, что способы участия в совместном труде адаптированы к самым разным возможностям: ребенку не говорят, что еще рано, что не под силу, — а изыскивают возможность сделать посильным и доступным разумению (какое у кого есть). Чтобы человек мог делать не по заранее установленным канонам, а по велению ума и сердца. Заметьте, что деятельность по адаптации деятельностей — открывает людям ранее неведомые грани прежнего способа производства, выводит за рамки обыденности. Избитая истина: нельзя что-либо как следует усвоить, пока не объяснил это другому. Учителя, профессора вузов, авторы учебников, — используют учащихся в своих корыстных целях: процесс преподавания превращает рыхлую эмпирию в науку — в общекультурное явление. Совершенно так же, воспитание — не передает культурные нормы, а пересоздает их. Тем самым, дрессура превращается в общение, совместное творчество.
Говорить об "изоляции" возможно лишь в плане бережного отношения общества к личной жизни. Не так, чтобы одних в одну кучу, других в другую, — а чтобы вообще не допускать никаких куч, чтобы каждый существовал сам по себе — и только тогда он сможет в полной мере представлять общество в целом. То есть, не детей отделить от взрослых, а дать каждому (независимо от возраста и тела) его личное (внутреннее) пространство, откуда он сможет, наконец, разглядеть других, столь же свободных людей.
* * *
Кукла Барби — воистину революционное изобретение! Разумеется, "модные" или интерьерные куклы известны больше двух сотен лет; однако идея сделать это игрушкой для детей — переворот в педагогике.
Реалистическая игрушка — серьезное отношение к ребенку: не создавать вокруг него искусственно упрощенный мир, не изолировать от того, что, якобы, недоступно детскому пониманию. Такие ограничения, чаще всего, проистекают из уродств классового быта — когда взрослые пугаются самих себя. Например, одно из мужских возражений против постановки Барби на поток: кукла с грудями — непристойность, разврат малолетних; тем самым мужики признают собственную испорченность, неумение по-человечески относиться к человеческому телу.
Игрушки для мальчиков всегда были реалистичными: солдатики, машины, оружие... Все это почти как у взрослых — мир в миниатюре. Тем самым сразу проводят грань между полами. В частности, намек на то, что настоящим делом заниматься может только мужчина. Барби — решительный шаг к женской эмансипации.
Условность игрушки — средство развития орудийного мышления, стремления приспособить вещи к практическим надобностям. Такая орудийность — в порядке вещей среди мальчиков; их воображение легко делает что угодно чем угодно, и взрослые это поощряют, — тогда как девочкам подобные вольности не к лицу. Парадоксальным образом, девочки в этом плане оказываются "взрослее" мальчиков — но сходство с взрослыми женщинами оказывается лишь выражением недостаточной взрослости женщин, женской ограниченности.
Девочек изначально готовили к роли матери и домохозяйки — поэтому их игрушки инфантильнее их самих: девочка поставлена над ними, она приучается тянуть "малышей" за собой — и относиться к ним как к игрушкам! Такое "игрушечное" отношение к миру — не редкость и среди нынешних женщин; отсюда ходячие представления о женских капризах и женской логике. Но тем самым и себя женщина считает только игрушкой для мужчин — и женщины играют подругами, не всегда невинно.
Кукла-идеал вместо куклы-игрушки — прорыв к свободе. Фокус внимания сдвигается с бытовых забот на заботу о себе; игрушка теперь активна, не так податлива — и заставляет играть воображение. Это не безропотный пупсик или тряпичная беспомощность! — это личность. Девочка вынуждена на просто командовать, а общаться, выращивать личность в себе. Пусть поначалу такая взрослость не выходит за рамки обыденных (мужских) представлений о женственности — сознание постепенно захватывает и то, о чем прежним женщинам мечтать не положено. Не удивительно, что вариации на тему Барби вбирают всю гамму взрослых ролей, сметая любые границы.
Понятно, что верхам подобный либерализм не по нутру. Игрушку пытаются приспособить для пропаганды, для навязывания стереотипов. Отсюда, в частности, многочисленные Барби-невесты (с безупречным женихом Кеном), беременные Барби и Барби-матери... Но поезд уже не развернуть: такие амплуа воспринимаются на фоне бесконечности прочих ролей уже не как общественное предписание, а как выражение личной свободы (хочу — и буду!).
В последней четверти XX века мир сильно изменился. Женщины отбирают у мужчин одну культурную сферу за другой — и сегодня, скорее, приходится говорить о мужской ограниченности: проявить себя "джентльменом" возможно лишь в узком кругу бытовых отношений, или там, где разумная деятельность еще не вытеснила заскорузлую животность. Воображая себя главой семейства, мальчик уходит от действительности в игрушечный мир — прячется в нем, общается не с живыми людьми, а с послушными абстракциями; отсюда пресловутая инфантильность современной молодежи — судят о которой по старинке, по мужской половине.
За всем этим стоят экономические тенденции, изменение способа производства. Рождение Барби было возможно лишь в русле этого общекультурного развития. Но стоит человеку что-либо осознать — он начинает работать над этим сознательно, и качественные сдвиги идут лавиной. Кукла Барби — этап осознания человеком собственной разумности, и ее влияние на образ мысли, чувств и действия — трудно переоценить.
Вероятно, в будущем вообще не будет игрушек. Останется игра — развитие способности манипулировать вещами. Но не абстрактно, ради игрушки как таковой, а в качестве одного из необходимых уровней деятельности, рефлексии. Никаких различий между взрослыми и детьми здесь нет — и делить человечество надвое тоже незачем. История куклы Барби станет частью (и символом) человеческой истории.
* * *
Личность есть духовное выражение универсальности человеческой деятельности, ее разумности — способности охватить мир целиком. Ограниченность воспитания уродует личность; в какой-то мере перекос может скомпенсировать практика, общественная жизнь, — но чаще классовое общество выхватывает нездоровые отклонения и усиливает их, усугубляет симптомы распада. Специализация — наследие прошлых веков, когда освоение новых способов деятельности требовало многих лет и десятилетий, а совершенствование — на всю жизнь. Сейчас положение меняется — но особо радужных надежд пока нет: способ производства целиком зиждется на разделении труда — и технологии обучения заточены под изготовление узкопрофильных кадров, которых из экономики постепенно вытесняют роботы (обучение которых стало модным направлением компьютерной науки). Теоретически, все просто замечательно: высвобождение человека из производственной рутины открывает новые горизонты, дает возможность расширить кругозор, приглядеться к разным сторонам культуры. На деле оказывается, что это лишает человека (иногда единственного) источника существования — так что далеко не бесплатные курсы переподготовки доступны далеко не всем, а пособия — только на подготовку армии живых роботов, где они еще востребованы.
Из всех уроков новейшей истории — выхватим один: самые эффективные педагогические системы отстают от темпов развития экономики, и это солидный вклад в конкурентоспособность не по-человечески сообразительных роботов. Почему отстают? Потому что играют в догонялки (типа советского лозунга: догнать и перегнать!). Соревнование вообще дело дурное, наследие животности; но пытаться переплюнуть соперника там, где он заведомо перспективнее, — полный идиотизм. Роботы берут количеством: любую операцию они смогут (теперь уже и без нашей помощи) довести до совершенства (которое, вроде бы означает переход в иное качество — но в отношении к той же мере, на той же шкале). И тут человек может принципиально возразить: совершенство — это вовсе не то, чего мы по жизни добиваемся! Дело разума — универсальным образом связывать мир воедино; но если мы однажды связали что-то — воспроизводить эту связь более элегантными способами может и хорошо натасканная автоматика, а людям оно уже не интересно (если кто и занимается — то лишь в контексте чего-то еще). Человек быстренько меняет тему — и пытается копнуть в некопанном. А роботу без разницы — и они могут дожевывать одно и то же до полной неудобоваримости.
Так устроены все человеческие деятельности — как материальное, так и духовное производство: есть собственно творческая (человеческая) часть — и есть борьба с косной материей, доведение прототипа до тиражного образца. Первое нас манит — второе нам обрыдло еще до начала. Об этом хорошо сказано в известнейшем стихотворении Мюссе (Tristesse):
Quand j'ai connu la Vérité,
J'ai cru que c'était une amie ;
Quand je l'ai comprise et sentie,
J'en étais déjà dégoûté.
| |
Хваленая трудоспособность гениев — это не достоинство, а изнанка профессионализма; в науке (включая математику) математике важнее всего — сформулировать гипотезу; ее проверка («доказательство») — вопрос технический; искусство исторически все дальше отходило от проработки деталей — стремилось выразить идею лаконично, без лишних (зачастую неуместных, отвлекающих) подробностей. Конечно, дилетантизм (любительство) в науке часто перетекает в верхоглядство, а торопливая неряшливость плодит безыдейное фиглярство, которое коммерсанты выдают за искусство; это не отвергает идею, а наоборот, подчеркивает важность направленности творческого поиска: любые автоматизмы — помутнение разума. Анри Бретон мог сколько угодно рассуждать о спонтанности артистического сна — но ни он сам, ни его гениальные соратники (Элюар, Дали и др.) никогда не следовали догмам сюрреалистического манифеста — точно так же, как великих классиков не смущали принципы классицизма.
Лучшее — враг хорошего; перфекционизм — враг прогресса. Мода не просто каприз — кое в чем она выражает саму суть человеческого подхода к жизни, его отличие от роботизированной утопии. Есть и ретроградная тенденция — замыкание в искусственном мирке, жажда сохранить рыночною нишу любой ценой. Например, ни один человек не сумеет сегодня обыграть в шахматы грамотно запрограммированный компьютер; но в спортивном бизнесе крутятся огромные деньги — и подогреть коммерческий интерес можно только ограничивая обращение к искусственному интеллекту в поединках людей (типа: запретить огнестрельное оружие в каратэ). То, что раньше было в какой-то мере творчеством, поиском нетривиальных ходов, — выродилось в детскую забаву, возню в песочнице.
Принято восторгаться музыкой Моцарта — но можно и пожалеть несчастного ребенка, которого с младенчества дрессировали на гения; будь у него шанс заняться еще чем-то — мы, возможно потеряли бы какие-то образчики виртуозности, но вовсе не дух Моцарта, дошедший до нас не благодаря его гениальной ограниченности, а вопреки ей.
* * *
Производственное обучение до сих пор сводится, по большей части, к отработке элементарных навыков, рефлекторных движений — как при физическом контакте с материалом, так и в умственной сфере (включая искусство и науку). Один из основных методов — решение задач, подгонка действий под формально правильный результат. Иногда это может принимать форму по видимости творческого задания (сочинить стихотворение, написать музыку, подготовить дипломный проект); однако лишь в редких случаях такие упражнения приводят к чему-то общественно значимому.
Яркий пример (и своего рода символ) — спортивные тренировки. Бесконечная шлифовка микродвижений в борьбе за лишние секунды или сантиметры. То же самое для воздействия на психику — медитация. Изучение языка невозможно без заучивания тысяч слов и фраз, плюс задания на грамматику. И так далее. Буржуазная образовательная система выработала единый стандарт профессиональной подготовки: переход с каждого уровня на следующий после выполнения положенных заданий (что обычно связано с временем обучения и его стоимостью). Важно не действительное вхождение в предмет, а угадывание ответов, условный рефлекс.
Другими словами, человек в процессе обучения почти не отличается от животных; он тем талантливее, чем больше поддается дрессировке.
Несомненно, никакое созидание невозможно без достаточного владения материалом. Строитель должен уметь строить, музыкант — соединять звучания, таксист — водить машину, физик — вычислять. Присутствие собственно человеческого во всяком ремесле связано с отношением к своему делу, а не делом как таковым. Тупой, животный вариант — просто следовать правилам, отрабатывать положенное. Разумность — требует осознания смысла: мы не просто учимся, настраиваем определенным образом органическое и неорганическое тело, — мы (хотя бы в общих чертах) знаем зачем. Ответы типа «иметь источник дохода» или «получить удовольствие» — не принимаются! Это удовлетворение животных потребностей (хотя бы и окультуренных, встроенных в способ производства). А важно как раз то, в чем человек отличается от животных — преобразование мира, осуществление того, что невозможно в природе само по себе, без разумного вмешательства. Только при наличии такого «проекта» (идеи) мироустройства подгонка материи, психики и общественных отношений перестает быть всего лишь натаскиванием, доведением до совершенства, — и становится предварительным этапом и условием духовного роста, рождением истории.
* * *
Некоторым туго дается школьная математика — и они отбиваются руками и ногами: дескать, это не имеет отношения к жизни... Но именно потому, что с математикой у них хуже, — она им нужна больше, чем другим. Чтобы восполнить недостаточную универсальность, стать разумным существом. Разумеется, речь о математике — а не о школьном предмете с тем же названием.
* * *
Вводить в школах половое воспитание как специальный курс — все равно что воспитывать по отдельности каждый палец, на руках и на ногах. Еще уродливее — увязывать половую жизнь с браком или деторождением. Есть общая гигиена — этого достаточно. А учить и воспитывать — только труду и любви.
* * *
Личность формируется в педагогическом процессе. Совершенно верно. Однако что такое "формируется"? Это значит — приобретает форму. И отнюдь не значит — рождается. А как личность может приобретать форму? Только путем проецирования на некоторое материальное тело (не обязательно тело биологической особи!).
Но как же тогда рождается личность? Очевидно, как совокупность социальных отношений, как идеальный образ, цель духовного производства. Это ее первичное содержание, которое, конечно же, обогащается в процессе формирования, воплощения личности. И тело личности, разумеется, не может в точности воспроизвести замысел, хотя бы потому, что материя не тождественна духу. А значит, то, какой получится личность в процессе своего формирования, отнюдь не совпадает с ожиданиями общества — и потому общество способно развиваться. Что же в основе этого развития? — Способ материального производства, воспроизводство объективного мира. Ибо именно в зависимости от уровня материального производства тело личности тем или иным способом влияет на воплощающийся в нем дух.
Здесь глубокая аналогия с художественным творчеством. Сначала есть замысел, возникший из самой жизнедеятельности художника. Потом он воплощается, приобретает некую форму, специфическую для данного вида искусства. Но форма не всегда соответствует своему содержанию — и процесс поиска подходящих форм продолжается (иногда долго и мучительно). Но вдруг оказывается, что создатель уже не в состоянии что-либо изменить, улучшить, усовершенствовать духовный продукт, — и творец прекращает работу, даже если творение все еще не выражает задуманного. Идея освобождается от автора — и продолжает развиваться и обогащаться в опыте зрителей, слушателей, читателей. Точно так же и личность на каком-то этапе творит сама себя: чем раньше — тем лучше.
* * *
Техническая революция начала XX века породила техницизм как господствующую иллюзию. Казалось, что решение любых проблем — дело техники. Для советских — впечатление еще разительнее, в силу вековой отсталости в быту. Поэтому большевикам казалось, что достаточно радиофицировать деревню — и самая отсталая крестьянка тут же приобщится к культуре.
Не получилось. Потому что не вещи определяют отношения между людьми, а наоборот: уровень развития духовности всецело определяет способы использования вещей. Недостаточно устроить всем красивую жизнь, чтобы разделаться с религией, национализмом, рвачеством и узостью интересов стадного обывателя. Нужны преобразования в сфере духовного производства.
В конце века грянула еще одна революция — и образ жизни сильно изменился. Даже язык стал другим. Но дикари так и остались дикарями, и большого желания стать культурнее не обнаруживают. Скорее, наоборот: культуру хоронят под наносами дикости. Обезьян надо воспитывать — сами по себе они не станут людьми никогда.
* * *
Все родители как-то представляют себе своего ребенка до его рождения — и многие задумываются о его будущем. Это уже выход за пределы органического тела. Чем раньше люди начинают строить планы и создавать условия — тем дальше рождение личности отодвигается в прошлое; чем больше в обществе свободы — тем меньше будущего за горизонтом. Подбор тел для личности — вторичен; было бы для чего подбирать.
Можно строить дом стихийно, используя все, что попадется под руку, — а можно по проекту, подбирая необходимые материалы; опыт строительства направляет поиск новых возможностей. Так понемногу уходим от "точечной" застройки и дорастаем до строительства по генеральному плану, включая ландшафтный дизайн... А потом — пересоздание мира в целом. Универсальная личность.
* * *
Полностью общественное воспитание никоим образом не означает, что всех детей надо собрать до кучи — в интернатах, детских домах, монастырях и резервациях... Скорее, наоборот: скопление людей в одном месте (не обязательно в смысле физического пространства) — предпосылка возникновения коллектива, расслоения общества, перехода от общественного воспитания к общинному. Та же семья — но в древних, архаических формах. Из которых закономерно вырастают все те же классовые структуры.
Парадокс: чем дальше люди друг от друга — тем ближе они к обществу в целом, к общественности как сути разумного существа. Поэтому создание возможностей быть не просто рядом, а вместе, — первая задача бесклассового воспитания. Не обязательно толкаться среди помеченных именами органических тел, чтобы ощущать свою причастность вселенской миссии человечества — одухотворению мира. Как это организовать технически — другой вопрос; быть может, ресурсы нашлись бы даже сейчас — если бы не противодействие правящих классов, которые заинтересованы в производстве послушных рабов, а не людей, — для чего стадная педагогика в самый раз.
Может показаться, что идея уединенности противоречит нашим представлениям о любви как духовном слиянии личностей, снятии всех различий между ними — включая телесные. Но уединенность не означает изоляции! Наоборот, согласование органических движений при непосредственном контакте — задача слишком сложная для начальных этапов становления личности, и разумнее ограничить столь жесткие взаимодействия, которым учиться, конечно же надо, — но на другой базе, с опорой на уже сложившееся сознание своей общественности. Разделение органических тел выводит на первый план единство тел неорганических, культурную, а не животную общность. Включить сюда органику задним числом — не представляет труда. Идея любви как духовного единения возникает в истории только в Новое время — когда заложены основы системы всеобщего разделения труда и люди (пока лишь внешним образом) воспринимаются как индивидуальности. Современная педагогика заставляет детей проходить в сжатом виде историю цивилизации — и воспитывает бездуховность, на которую лишь при хорошем раскладе, может наложиться человеческая любовь. Чем раньше мы освобождаем детей от формального размежевания (коллективность, групповщина, семейственность) — тем шире круг духовных взаимосвязей, и тем скорее человек включается в активную работу над собой, делает себя человеком.
* * *
Человеческое тело от рождения стараются поставить в зависимость от других тел: одни тела сталкивают с другими — общение заменяют физическим контактом. Что удивительного, если при таком воспитании половая любовь начинает восприниматься как интимная близость — отношение тел, а не личностей? Дети и подростки не сами сбиваются в стайки — стайную жизнь навязывает общество. Избегающих компании считают больными: детей записывают в аутисты, взрослых в шизоиды...
Развитие технологий позволяет избавить тела от непосредственных контактов; пока это трудно осуществить на начальном этапе (даже при искусственном вскармливании) — но принципиальных препятствий нет. Компьютерные технологии выводят коммуникацию и аффекты за рамки органики: общение в компьютерных сетях не дает ни малейшего намека на плоть кого-то на той стороне; в классовом мире этим пользуются мошенники и вредители — но по большому счету такая виртуальность предвещает универсализацию личных контактов, когда никто не обязан отождествлять себя с органическим телом (но, конечно, никому и не запрещено).
Детский аутизм — знамение времени, своего рода стихийный протест против классовой педагогики, загоняющей дух в узко телесные формы. Капризный ребенок бунтует против чего-то конкретного — аутист идет против системы, запрещающей людям строить их личные миры. Традиционно аутизм лечат расширением круга контактов — что лишь усугубляет отторжение, и только по случайности, при встрече с действительно интересным человеком (то есть, с любовью), может вспыхнуть искра — к вящему удовольствию самовлюбленных медиков. Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный прием — вовлечение детей в виртуальные, сетевые контакты (например, сетевые игры или производственные проекты); именно здесь человек получает возможность общаться не с телами, а с другими людьми, — воображая их себе как угодно и не натыкаясь на грубые возражения косной материи. Экономической основой могло бы стать всемерное расширение возможностей самообслуживания — удовлетворения органических и прочие нужд без обязательность личных контактов; человек обращается напрямую к обществу (культуре) — и от него (а не от кого-то конкретно) получает средства к существованию и ответы на все вопросы.
В каком-то смысле, переход к максимально опосредованному общению — требование гигиены. Даже смотреть со стороны на иные тусовки — вызывает ощущение нечистоплотности; тем более мерзко становится изнутри. Участники таких сборищ накачивают себя чем придется, чтобы заглушить смутную тревогу; порноиндустрия возводит грязь в ранг дозволенного (и даже обязательного) удовольствия. Но еще важнее — духовная чистота, неподчинение диктату тел и неприятие групповых ролей, переход от этологии к человеческому поведению, совместному труду и общению. Животные сбиваются в стаи — им так проще и безопаснее; люди идут к личным, индивидуализированным связям — когда общение один на один представляет общение сразу со всеми, с человечеством, с разумом, с миром. Не отключать сознание химической и духовной наркотой — а освобождаться от телесности, чтобы уместно задействовать любые тела.
* * *
Половое размножение — как природный прототип (и предпосылка) взаимодействия многих людей при рождении личности. Невозможно личность выдумать, абстрактно скомпоновать из готовых блоков: здесь требуется возникновение новой иерархии общественных отношений (которую потом можно представлять природными телами и продуктами деятельности). Талантливый литератор создает яркий персонаж не на пустом месте: это воплощение уже сложившейся в обществе идеи — вместо литературного произведения можно было бы сделать этот тип кем-то в плоти и крови.
Элементарная ячейка, строительный кирпичик, — возникновение опосредования связи двух субъектов: косвенная связь S1 ⇒ S2 переходит в опосредованную: S1 → S → S2 — где субъект S представляет идеальную связь исходных субъектов — и потому является субъектом другого уровня, предположительно более высокого. Отсюда расхожее мнение, что дети идут дальше своих родителей, продолжают их, осуществляют что-то неосуществленное. Однако, в силу обратимости любой иерархии, ее вершиной могут стать также S1 или S2 — и мы получаем еще одно ходовое представление: рождение отпрыска переводит родителей на следующий уровень их личностного развития. В общем случае, строят новую личность не двое, а многие (в пределе — все человечество); исторические обстоятельства развертывают иерархию в том или ином виде — и воплощение подбирается под одну из возможных структур.
* * *
Психология как наука о душе (то есть, об отношениях особи с себе подобными) допускает расширение на человеческие сообщества лишь в той мере, в которой сохраняется какое-то подобие. Именно поэтому развитие психологии личности неизменно сводится к поиску сходства и личностных черт — а педагогика подгоняет цели и методы под готовые представления о социально приемлемом. Поскольку же духовность есть главным образом универсальность, становление личности выражает, прежде всего, ее отличие от кого бы то ни было, и это отличие двоякого рода: с природной стороны — уникальность воплощения духа в каких-то телах (не обязательно органических); с общественной стороны — речь об уникальности места человека в культуре, о его безусловной необходимости для общечеловеческой истории. Психология не может говорить о личности как таковой — науке доступны лишь природные и общественные проявления, причем проекция личности на общество допускает психологические интерпретации лишь там, где общество недостаточно духовно — и опосредовано коллективностью субъекта (принадлежностью человека к одной из типовых групп, сведение личности к типовой функции). Точно так же, пока личность не стала непосредственным выражением общественного развития, воспитание всегда партийно: это воспроизводство профпригодности и групповых ролей, а не воспроизводство разума. Бесклассовому обществу не нужны знания и амплуа как таковые — поэтому наука и педагогика могут существовать в нем лишь как способы развертывания рефлексии и социализации в текущем контексте, в качестве подготовительного этапа или уровня разумной деятельности.
* * *
С точки зрения классового человека, бесклассовая педагогика есть воспитание ненормальных: каждому предлагается строить свой личный мир, жить и действовать в нем без оглядки на мнения окружающих... Хитрость в том, что в классовом мире штампуют нормальных как раз для того, чтобы обнаружились ненормальности (например, как талант или классовая привилегированность) — тогда как общество без классов поступает наоборот: люди свободны быть разными для того, чтобы явственнее проступило их единство.
* * *
Личность строит себя не из тел, а из их идеальностей — отношений между людьми в контексте конкретной деятельности. Как минимум, это означает, что надо в чем-то участвовать — и с кем-то общаться. С одной стороны — это как сборка индивидуальности и личности из кусочков других индивидуальностей и личностей; другая точка зрения: перенос части себя вовне, распределение субъекта по многим телам в их отношении к разным субъектам. Интеграция и дифференциация как обычные механизмы роста иерархий. Когда мир меняется так, что распределенное не удается связать — рождение новой личности, и поиск новой универсальности.
* * *
Творчество — поиск того, что мы еще не успели связать воедино; идея продукта — предпосылка предметной деятельности. Образование расширяет круг ориентиров, побуждает сопоставлять одно с другим; другая сторона того же — обобществление находок, повод быть вместе с кем-то еще — и тем самым придать найденному смысл.
Примечания
01
Во всех известных нам переводах на русский язык (а их десятки!) утрачен смысл оригинала. Поэтому цитируем по первоисточнику.

|