|
Признаюсь, мне нравится читать словари. Разумеется, не всякие. Есть совершенно тупые коллекции слов, надерганных без разбору, и столь же произвольно сопоставленных каким-то из возможных переводов... Как в реальной жизни одно соотносится с другим, остается полнейшей загадкой. Но есть и другие: умные собеседники, полновесные словари-энциклопедии, в которых каждое слово дано не само по себе, а в нескольких бытовых контекстах, и перевод уже не сводится к банальной подстановке, превращается в творчество и осмысление. Вместо хаоса правил и мнемотехники — культурное владение языком (своим или иностранным). Вместо типовых решений — умение сознательно выражать себя, индивидуальность и неповторимость. Конечно, обширный запас готовых форм необходим в любом деле; без этого нет свободы творчества, оно вязнет в бесконечности сугубо технических проблем. Но подлинное владение предметом начинается там, где мы не только придаем форму традиционному материалу, но умеем при случае обогатить и сам этот материал, добавить к нему нечто новое — или усмотреть в нем неожиданные грани.
Непосредственный повод для размышлений — англо-русский синонимический словарь 1979 года, издательство "Русский язык". Помимо общеобразовательной и справочной ценности этот словарь еще и представляет некую научную концепцию, которую вдохновитель команды авторов Ю. Д. Апресян подробно излагает в послесловии. А значит, не возбраняется обсуждать как саму теорию, так и результаты поставленного по ней эксперимента. Чем мы и займемся после небольшого лирического отступления.
Ученые любят называть высокими словами вещи, в общем-то, незамысловатые. В мире денег иначе нельзя: не произведешь должного впечатления на тупого толстосума — не на что будет заниматься наукой. С другой стороны, в одиночку пробиться трудно, ибо все уже давно поделено, а места у кормушки бдительно охраняются традицией, законом и приблатненной цеховщиной. Вот и придумывают финансов ради художественные направления, философские школы и новые науки. Не то, чтобы на пустом месте, — но в любом случае уже за гранью, соответственно, искусства, философии или науки.
Но о связи языка и политики — особый разговор. А пока попробуем присмотреться к тому, как лингвистическое сообщество трактует проблемы значения и смысла применительно к языковым реалиям.
Мы привыкли, что вещи, их свойства и состояния, а также чьи-то действия по поводу вещей, или просто отношение к ним, — все это как-то называется. Иногда такие названия представлены в языке словами — но, вообще говоря, это не обязательно. С одной стороны, сослаться на что-либо можно и словосочетанием, и длинным текстом, и чем-то бессловесным (интонацией, жестом, поведением). С другой стороны, слова могут нечто иметь в виду (или не означать ничего) сами по себе — но совсем иную предметность приобретать в контексте. Например, матерщина теоретически обозначает какие-то вещи — но понимать мат буквально ни один носитель языка не будет, разве что хохмы ради. Наконец, есть языки, в которых категория "слово" по существу отсутствует, там свои лексикографические единицы — и о словах говорят лишь по европейской привычке, условно, по аналогии с другими языками.
Чтобы придать весу этим банальным соображениям, ученая братия их абсолютизирует и торжественно заявляет, что элементы языка суть знаки, а язык — знаковая система. У всякого нормального человека немедленно возникает вопрос: а что такое знак? и что такое система? Но подобная нескромность в науке считается неприличной и посылается куда подальше — например, в философию. Зато, как только мы избавились от жизни и заменили ее пустыми абстракциями, мы можем беспрепятственно комбинировать одну пустоту с другой; чтобы застолбить делянку и обеспечить этой комбинаторике общественной признание (читай: приток капитала), мы называем ее громким словом: семиотика, наука о знаках.
И пошло-поехало... В качестве иконы — так называемая семантическая схема Морриса, согласно которому "язык является набором знаков, а речь предполагает использование этих знаков, причем обычно в связи друг с другом". Тут как-то невкусно попахивает самобытием абстрактных форм... — однако платонический срам легко прикрыть еще одним "ученым" словом: дескать, знаки существуют не просто так, а возникают в процессе семиозиса; что это такое, мы не знаем, — но как звучит!
Возьмите любую книжку по семиотике (семантике, логике, теории систем...) — и вы найдете в изобилии образчики дурного наукообразия:
|
Семантическое измерение семиозиса представляет собой отношения знаков к объектам [...]. Прагматическое измерение — это отношение знаков к интерпретаторам. [...] Отношение знаков друг к другу принадлежит к синтаксическому измерению семиозиса.
[...] одни знаки являются десигнаторами, а другие — форматорами. Десигнатор состоит из имеющего физическую природу означающего и означаемого — десигната; форматор же состоит из такого же показателя и указания на операцию...
Во всех языках существуют также дейктические средства — это знаки, имеющие референты, но не имеющие десигнатов.
Анализ семиотических средств, которыми язык располагает для десигнации, референции, сдвига уровней и т. п., составляет его семиотическое описание. Структура десигнатов знаков языка является объектом его семиотического описания в узком смысле слова...
|
Ну и под занавес — заигрывание с математическим жаргоном:
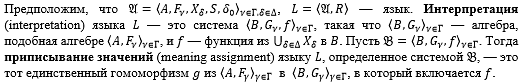
Человека непривычного на таких пассажах начинает серьезно клинить — и тянет уйти в монастырь, подальше от подальше от непостижимой модерновой учености. В переводе на человеческий язык весь этот фейерверк означает буквально следующее: предполагается, что язык — это набор раз и навсегда заданных элементов (знаков), с неизменными правилами их сочетания, и все, чем люди по жизни занимаются, столь же определенно и неизменно, а стало быть, можно навесить на любой кусок действительности словесные ярлыки, и этим наше знание о предмете полностью исчерпывается, ибо все происходящее с поименованными вещами заранее предопределено правилами сочетаемости знаков языка. Не надо быть великим мудрецом, чтобы понять примитивную ограниченность подобной науки. Возможно, это могло бы пройти для очень специализированных компьютерных протоколов — но даже там не отвертеться от развития, и на каждом шагу возникают проблемы совместимости реализаций вроде бы единого стандарта.
В скобках заметим, что современная наука, по крайней мере теоретическая, склоняется именно к этому — к подмене связи вещей связью абстрактных символов. Сначала мы вводим много-много заумных терминов, потом начинаем выражать одни термины через другие, потом навязываем сами себе жесткие правила комбинирования знаков — и остается лишь уверовать, что наши формальные игры — это и есть единственная реальность, и ничего другого в мире просто нет. Трудные отношения обывателя с наукой связаны прежде всего с нежеланием людей участвовать в играх по чужим правилам, иногда чуждым всякой разумности. Складывается впечатление, что эффектные примеры технологического прогресса якобы воплощающего идеи передовой науки — отнюдь не ее заслуга, а наоборот, результат очищения формалистических игр от формалистики — тонны пустой породы промываются практикой в поисках крупиц объективного знания; изредка попадаются крупные самородки — и происходит научная революция, технологический прорыв, взлет массового сознания. Как следствие — лавина новых исследований, погребающая под собой исходную идею; и опять надо разгребать хлам в поисках непреходящих ценностей.
Семиотика, как уже упоминалось, традиционно делится на три большие ветви:
— синтаксис (или синтактика); знаки сами по себе и правила их комбинирования;
— семантика; отношение знаков к объектам, правила обозначения;
— прагматика; происхождение и использование знаков.
Нормальный человек тут же смекнет: устройство знаковой системы и ее отношение к вещам вытекают из того, как и для чего эта "система" используется на практике; следовательно, в первую голову нас должна интересовать "прагматика", содержание общения, а семантика и синтаксис — это материал и форма, способы воплощения (выражения) содержания. Однако платоническому лингвисту все представляется с точностью до наоборот: есть знаки сами по себе, есть (произвольное) сопоставление их вещам, а "прагматика" — лишь следствие этого "акта творения", сугубо психологическая склонность следовать общепринятым установлениям. Из всей психологии при этом остается простая дрессировка, натаскивание на "правильное" поведение — и этому тоже придумали "ученое" название: бихевиоризм — а также все его формализованные разновидности: теория научения, когнитивная психология и т. д. Патриарх Моррис, провозгласивший семиотику метанаукой и инструментом наук, идет еще дальше: семантика недостаточно чиста для высшего знания — и пусть ей занимается "прикладная" наука, всякое там естествознание. А истинному лингвисту не пристало задумываться о превратностях бытия — его дело знаки сами по себе, синтактика, которая в таком понимании сливается с формальной логикой: всякое действие сводится к мысли, а всякая мысль — к сочетанию знаков.
Разумеется, для подобных иллюзий есть вполне реальные предпосылки: философский идеализм — не просто чепуха, это некритическое преувеличение одной из черточек живой культуры, классовая ограниченность, узость бытия и мышления, неумение за деревьями видеть лес. Но здесь речь о другом — о значениях и смысле наших слов.
Понятно, что изгнание семантики из языкознания подкладывает, например, изрядную свинью ученым лексикографам — выбивает у них почву из-под ног, лишает всяческих оснований исследование сходства и различий. В частности, синонимия оказывается внеязыковым явлением, и обсуждать ее лексикографические формы совершенно незачем. Точно так же, филологам становится неуютно, поскольку всяческая герменевтика, искусство толкования текстов (и любых иных следов культуры) предполагает, как минимум, возможность интерпретации — а это уже выходит за рамки науки о языке. Значительную часть лингвистов сведение языкознания к синтаксису не устроило — и попытки вернуть семантику в родительское лоно предпринимались неоднократно. Делать это можно по-разному. Например, в рамках психолингвистики — то есть, как бы примазываясь к "чистой" лингвистике из естествознания. Можно, наоборот, "очистить" саму семантику, превратить ее в игру абстрактных форм, довести до математического абсурда. Такую "облагороженную" науку от комбинаторной синтактики уже не отличить — и можно смело воображать себя коренным языковедом. Тут кстати подвернулась новейшая фишка — компьютеры, и всеобщий энтузиазм по поводу автоматического перевода и обработки знаний. Можно расслабиться и помечтать: "...на нынешнем этапе развития лингвистики и ее приложений возникла — впервые за всю историю существования науки о языке — возможность плодотворного синтеза лексикографии и семантики, которые до новейшего времени развивались в отрыве друг от друга". Ну что ж, давайте рассматривать, что там Апресян со товарищи насинтезировали...
Еще одно замечание на полях: "семантика" в переводе с вульгарно-греческого — учение об обозначениях. Но в своем девичестве (конец XIX — начало XX века) это называлось "семасиологией" — то есть, учением об указаниях. Улавливаете разницу? Одно дело — просто назвать корову словом "трамвай", а совсем другое — понять, как слово "корова" стало способно указывать на вполне определенное животное (хотя бы и в обобщенном плане, не обязательно вот эта рогатая Мурка). Смена названия носит знаковый характер, отражает формалистический сдвиг, стремление отмежеваться от "естествознания" и породниться с псевдострогой якобы математикой.
Но вот, свершилось! — семантика опять понимается как "раздел лингвистики, изучающий смысловое значение единиц языка". Человеку мало-мальски знакомому с общей психологией сразу хочется возразить: значение и смысл — вовсе не одно и то же, и говоря о "смысловом значении" следует объяснить, что сие означает и в каком смысле. Чтобы осмыслить что-либо, надо поместить его в контекст некоторой деятельности, указать место и роль в чем-то большом. Напротив, значение всегда ссылается на частности, на возможные воплощения, допустимые варианты. С некоторой натяжкой можно было бы принять "смысловое значение" как значение в контексте определенной деятельности — и тут есть, что обсуждать. Однако по отношению к формалистической лингвистике мы попали бы пальцем в небо. Действительно, в такой науке языковые формы существуют ради самих себя, и единственная деятельность, с которой имеет дело "современный" лингвист, — это абстракция речи, построение "правильных" комбинаций знаков. Но такие комбинации как раз и представляют формально понимаемые значения — а следовательно, значение и смысл здесь полностью совпадают, что и находит выражение в вульгарном словоупотреблении.
Со школьных времен в нас отложились термины элементарной семантики: "синоним", "антоним", "омоним" или "омофон" и т. д. Нас учили выражаться на заданную тему разными способами — и некоторым это даже оказалось полезно как в профессиональном плане, так и для общего развития. Однако ученые названия призваны скорее прикрыть наше недопонимание, чем прояснить суть дела. Действительно, по жизни мы знаем, что некоторые слова и речевые обороты по видимости ссылаются на одно и то же — хотя и по-разному, с оттенками и нюансами. Название "синонимия" ничего не прибавляет к интуитивному пониманию. Можно относить к синонимии разные грамматические и стилистические трансформации ("параллельные обороты", "лаконичность" vs. "витиеватость") — яснее не станет. И не может стать, если язык понимается чисто формально, как "знаковая система". Некоторых это толкает на крайние меры:
Каждая языковая форма имеет постоянное и специфическое значение. Если какие-то формы фонематически различны, мы предполагаем, что каждая форма [...] отличается от всех остальных какими-то постоянными и общепонятными оттенками значения. Короче говоря, мы полагаем, что подлинных синонимов в природе не существует.
|
Вот так: замели мусор под ковер — и нет проблемы. Насчет постоянства и специфичности речь впереди. Но у каждого перед глазами тысячелетняя практика составления словарей: толковых и бестолковых, тематических и хаотических, многоязычных и косноязычных, наглядных и неприглядных... В любом случае мы пытаемся что-то друг другу объяснять и растолковывать, невзирая на теоретические запреты. Одно в чем-то похоже на другое — это универсальный факт. Можно объявить его иллюзией — но тогда придется выяснять, почему и как она возникает. Не думаю, что это проще. По-видимому, большинство лингвистов того же мнения, и выкручиваются как умеют. Одно из достижений — понятие речевого контекста (ситуации). По сути, контекст представляет в лингвистике ту самую совместную деятельность, в рамках которой наши действия становятся осмысленными. То есть, синонимия — не врожденное свойство языковых конструкций, а характеристика контекста; можно даже сказать, что речевая ситуация с лингвистической точки зрения полностью определена иерархией предполагаемых ею языковых форм. Правда, не обходится без реверансов в сторону формалистической традиции: обычно допускают существование "точных" синонимов, взаимозаменяемых во всех контекстах, относя контекстно-зависимое сходство к разряду "частичной" синонимии (в особую группу выделяются "квазисинонимы"). Нетрудно показать, что "подлинных" синонимов, не зависящих от контекста, на самом деле вообще не бывает. Например, любые синонимы могут быть только частичными в контексте их лексикографического описания, когда различение языковых форм предшествует описанию их сходства. Это обстоятельство нашло выражение в принципе семантического "гомоморфизма": набор "значений" всегда шире набора лексических единиц, и потому одна и та же лексема вынуждена представлять разные значения. Если полагать, что способы человеческой деятельности заданы раз и навсегда, что история остановилась, и новым "значениям" просто неоткуда взяться, — ничего другого, конечно, не остается. Разумный подход к делу может принять и семантический гомоморфизм — но лишь как одно из возможных приближений, справедливое в определенных культурно-исторических рамках; требовать от этой модели чего-то большего просто глупо.
Синонимический словарь Апресяна существование синонимов безусловно признает, утверждая, что синонимия — "фундаментальная черта всех естественных и искусственных языков". Участники проекта движимы благородным стремлением развить в русскоязычном читателе активное владение английским языком, опираясь на самые передовые лингвистические идеи. Эти три кита: активность, двуязычность, современность — подробно обсуждаются в сопроводительной статье. Давайте и здесь обсудим.
Согласно Апресяну, активность лексики предполагает адекватность, идиоматичность, гибкость и селективность. Действительно, правильный подбор средств выражения, знание типовых конструкций, умение выражаться многими способами и внимание к стилистическим нюансам — приобретения безусловно полезные, хотя и не универсально значимые. Однако называть все это активностью — решение спорное. Больше подходит другое название: оснащенность, владение языковым материалом. Тогда как активность — скорее, характеристика практического использования этого материала. Можно прекрасно разбираться в правилах и оттенках, без труда воспринимать богатство чужой речи — но совершенно безалаберно относиться к своей. Точно так же, ценитель поэзии вовсе не обязан быть поэтом, а любитель оперы может быть начисто лишен голоса.
Но простим авторам эту меленькую семантическую вольность и допустим, что словарь синонимов должен первым делом расширить нашу языковую эрудицию. Как этого добиться? Апресян уверенно отвечает:
[...] синонимический словарь должен характеризовать синонимы с точки зрения смысла, лексико-семантической сочетаемости, грамматических конструкций и стилистических свойств. В каждом их этих случаев должны быть описаны все их сходства и различия, так, чтобы для любого синонима из данного синонимического ряда были выяснены типы специфических для него контекстов, а для любой пары синонимов — типы контекстов, в которых они взаимозаменимы (если, конечно, возможность взаимозамен в принципе существует). Наконец, необходимо, чтобы описание было максимально полным, достаточным и эксплицитным, т. е. построенным так, чтобы на его основе можно было научиться правильно употреблять синонимы в широком круге ситуаций.
|
Утопия. Во-первых, смысл — это отношение к деятельности, и это всегда вне лексикографии. Даже если допустить, что имеются в виду не смыслы, а значения, — пришлось бы перечислять все возможные контексты (по отношению к которым значения только и существуют), что изначально невозможно (хотя бы потому, что каждое перечисление создает новый контекст, новый уровень иерархии). Исчерпывающее описание сходств и различий было бы возможно только при сведении человеческой деятельности к небольшому набору типовых реакций — превращении человека в робота, в автомат. Не владение языком — а работа по программе, интерпретация команд и кодирование запросов. Сразу ясно, что послужило источником лексикографического вдохновения:
Теоретические требования, которым должен удовлетворять наш словарь, определяются в первую очередь уровнем современной лингвистической семантики. В тех исследованиях, на которые мы будем ориентироваться, семантика мыслится как один из компонентов кибернетической модели языка. Кибернетической моделью языка называется логический автомат, имитирующий [!] владение языком [...]. В конечном счете в задачи такого автомата входит формальное — реализуемое на вычислительной машине — установление соответствия между определенным смыслом и всеми выражающими его правильными текстами, с одной стороны, и между определенным текстом и всеми выражаемыми им смыслами, с другой.
|
Можно сколько угодно отпираться, что, дескать, принцип "активности" сформулирован "на независимых основаниях", — мотивы как на ладони. Не то, чтобы я был против компьютерной лингвистики, — но не надо сводить к этому языкознание в целом.
Особая песня — полнота, достаточность и эксплицитность описания, о которых Апресян твердит на разные лады, повторяя эти три слова как мантру, как заклинание. По определению:
Описание является полным, если в нем упомянуты все существенные свойства изучаемых объектов; оно достаточно, если ни одному объекту не приписывается никаких лишних свойств; наконец, оно эксплицитно, если не содержит никаких недомолвок, упоминает каждое свойство объекта в явном виде, не апеллирует к сообразительности читателя, а может и должно пониматься буквально.
|
Насчет утопичности перечисления всех существенных свойств — уже сказано. Мало того, что любой объект внутренне бесконечен, — он еще и развивается, вместе со своими свойствами и их существенностью. Что такое "лишние свойства" — темный вопрос. Кому лишние? При каких обстоятельствах? Опять же, оно может быть вовсе не лишнее, а про запас — когда-нибудь потом пригодиться. Наконец, "эксплицитно" тупо переводится на русский как "в явном виде" — масло масленое. Фраза о сообразительности читателя — это просто революция в лингвистике; давайте еще сделаем лингвистическими категориями моральный дух, количество волос, или сексуальные предпочтения... С буквальным пониманием — тоже туго. Свойства мы таки описываем на каком-то языке; пусть он хоть десять раз формализован — избежать многозначности никак не получится. Долгие почесывания репы приводят потомков к выводу:
Естественное решение состоит в том, чтобы рассматривать отношения между значениями многозначной единицы как отношения семантической деривации. При таком подходе одно из значений надо выбрать в качестве главного, а каждое частное значение должно выводиться из него...
|
Сильно сказано. И, в общем-то, возразить нечего. Если, конечно, не забывать, что подобное развертывание иерархии накрепко связано с определенным контекстом — а в другом контексте она может развернуться совсем не так. В итоге эксплицитность по-апресяновски есть просто перевод с естественного языка на формально-семантический, сопоставление живых значений мертвым формулам:
Задача установления соответствия между смыслами и текстами ставится в теоретической семантике как задача перевода с искусственного семантического языка на естественный (что соответствует говорению, или синтезу текстов) и с естественного языка на семантический (что соответствует пониманию, или анализу текстов).
|
Для нормального читателя — занятие совершенно бесполезное, никак не способствующее ни развитию словарного запаса, ни речевой активности. Смело пропускайте семантические описания в начале каждой словарной статьи — и вы ничего не потеряете. Но для автора его технология формализации — предмет гордости... Мы снова приобщаемся к современному божеству — компьютеру:
В современной теоретической семантике разрабатываются специальные формальные языки не только для описания значений слов, но и для описания их лексико-семантической и синтаксической сочетаемости. В семантике они необходимы, потому что без таких языков оказывается невозможным решить задачу автоматического синтеза правильных идиоматичных текстов...
|
Давайте воспитывать в себе шаблонность мышления — выражаться правильно, готовыми фразами (формулами семантического языка), очищая речь от всяческой естественности:
[...] семантический язык универсален, т. е. свободен от всего, что составляет специфику выражения смыслов в естественных языках. Каждый смысл, который в том или ином естественном языке выражается имплицитно [...], должен быть выражен эксплицитно — отдельным словом семантического языка.
|
Привет старым знакомым! На щит поднимается все тот же семантический гомоморфизм. И это называется современностью?
Понимая, что в таком традиционном деле, как лексикография, реформы полезнее, чем революция, мы выработали для словаря синонимов компромиссное средство описания — упрощенный, стандартизированный русский язык, состоящий из ограниченного числа относительно простых слов и конструкций.
|
И дальше полный комплект первородного греха:
|
а) Сложное значение должно толковаться через более простые значения...
Принцип ступенчатого сведения сложных значений ко все более простым предполагает, что какие-то значения должны использоваться в качестве элементарных, т. е. неопределяемых.
б) Толкования должны быть полными и достаточными.
в) Каждое слово русского языка, участвующее в толковании, должно использоваться ровно в одном смысле, а каждый смысл, нужный для толкования, должен выражаться ровно одним словом...
|
Даже комментировать не хочется. Однозначность, полнота и достаточность — исключительно чтобы примазаться к божественной математике. "Сведение к простейшим" и специальные формализованные языки для описания семантики — пережиток "компонентного анализа" американской семантики 1960–70-х, попыток представить любое (вырванное из контекста) значение в рамках конечного набора универсальных признаков. Оригинальности ноль. Длинный список параметров, по которым предполагается оценивать семантические параллели и различия должен, по замыслу, производить впечатление основательности и широты охвата — однако его произвольность и хаотичность бросается в глаза. Как и во всех предшествующих экзерсисах подобного рода, нам просто перечисляют что в голову пришло; ни о каком исследовании реально возникающих в семантических пространствах структур здесь и речи нет. Тем более, остаются в тени причины их возникновения.
Житейские наблюдения вполне согласуются с историей науки: в мире не бывает ничего "простейшего", абсолютно элементарного. В каких-то условиях сложностью элементов можно пренебречь и строить из них грандиозные сооружения; однако в какой-то момент "первичные" кирпичики начинают деформироваться под тяжестью конструкции — и оказывается, что сами они тоже из чего-то состоят, а их кажущаяся прочность и незыблемость проистекают из практики из использования. Элементарность — не простота, это лишь одно из возможных отношений к другим вещам. В других ситуациях сложность и простота могут поменяться местами; что из чего состоит — дело весьма относительное.
Точно так же, в языке ни одно слово не проще (и не сложнее) других. Каждое — внутренне бесконечно, каждое допускает веер толкований. Формальные "объяснения" ничего не дают для души, к освоению языка (которое всегда требует душевной работы) они не имеют ни малейшего отношения. Каждый устанавливает свои соответствия между словами (или иными языковыми формами) в зависимости от конкретных потребностей — и ни одна из возможных структур не претендует на истинность в последней инстанции. Устойчивость каких-то находок — следствие повторяемости жизненных ситуаций. Но повторение — лишь до какого-то предела, и ни одна структура не вечна. Такова жизнь — и таков язык, ибо он не сам по себе, а о жизни и для жизни.
Апресян полон сарказма по отношению к "традиционным" словарям, в которых, по его мнению, толкование сводится к тавтологии, к простому сопоставлению слов. Однако та наукообразная стряпня, которую он предлагает взамен (пресуппозиции, коннотации, логические акценты, модальные рамки) упускает из виду главное в языке — универсальную взаимосвязь, сопоставимость чего угодно с чем угодно, относительность любых разграничений и оценок. Только такой, универсальный язык способен стать воплощением, объективным представителем субъекта деятельности — поскольку субъект как раз и нужен для того, чтобы связать Вселенную воедино, соединить несоединимое. Словари со свободным толкованием (оксфордские, Webster, Robert) ближе к духу языка, они не сводят одно к другому, а показывают разное в единстве. Поскольку в каждую эпоху на первый план выдвигаются господствующие в данный момент ассоциации, такие словари живут, меняются вместе с языком — они по-настоящему современны, и куда полезнее для овладения активной лексикой, нежели "ученые" труды, предписывающие языку что-то раз и навсегда. Да, конечно, у всех свои недостатки. Каждый обращает внимание на то, что ему ближе. В конце концов читатель все равно возьмет понемногу из разных источников и слепит в себе то, чего авторы словарей никак не могли предположить. И нет ему дела до споров о правильности того или иного понимания синонимии. Если я считаю, что заяц похож на медведя — мне все равно, как соотносятся разные зайцы и чем один медведь отличен от другого; мое личное видение не обязано считаться ни с зоологической таксономией, ни с предписаниями массовой культуры. Не психиатрам судить о моей нормальности.
Язык не существует вне общения, а общение — вне совместной деятельности. Единственный способ овладеть иностранным языком — жить в нем, постигать мир через него. Нужно слушать и говорить, читать написанное разными людьми в разные века. Пусть это варится в практике, с приправами наших желаний, чувств, сумасбродств и озарений. В итоге сложится особая целостность — языковое чутье. Других путей нет. Но хороший словарь — это своего рода концентрат языкового опыта, все грани целого в одном флаконе. Он позволяет говорить сразу со всеми носителями языка, в одно мгновение прожить тысячи лет.
Особый вопрос — двуязычность. Не для кого не секрет, что разные языки соотносятся друг с другом не пословно, а как-то иначе, сложно и неоднозначно. Поэтому одно и то же слово одного языка переводится десятками слов или фраз другого, а то и вовсе без слов — умолчанием, интонацией, строем речи. В каждом языке свои синонимические ряды — и сопоставить одно с другим почти невозможно. Мы вправе рассуждать об английских синонимах по-русски — но это взгляд со стороны, вовсе не обязательно отвечающей внутреннему ощущению носителя языка. Нельзя научиться иностранному языку, сопоставляя его с родным; чем раньше мы обрубим канаты, сожжем мосты — тем лучше. Взрослому трудно отрешиться от уже наработанных схем, начать все с нуля. Единственный способ разбудить в себе детскую восприимчивость — через практику, через совместную деятельность. Поработайте пару лет среди американцев, французов, китайцев — и вы волей-неволей будете говорить на их языке, причем так, как говорят они, а не как вещает с кафедры большой лингвист, с его "нормализованным" произношением. Да, это разрушит вашу этническую идентичность — но разовьет человеческую полноценность.
С точки зрения высоколобой семантики, сопоставление "смыслов" состоит в переводе фраз одного языка во внутренний семантический код — с последующим развертыванием его в конструкции другого языка. Люди, дескать, только говорят по-разному — а понимают все одинаково. Поскольку эта божественно априорная языковая способность мыслится вне времени и пространства, один и тот же набор формул можно использовать для связи любых языков, включая общение людей (или инопланетян) с роботами и компьютеров между собой. Двуязычный синонимический словарь в таком понимании ничем не отличается от одноязычного, а в идеале все словари должны превратиться в кодовые таблицы, правила перевода с любого языка на абстрактно-семантический, и наоборот. Апресян так и заявляет:
[...] если имеется полное, неизбыточное и эксплицитное толкование каждого синонима, какое бы то ни было дополнительное описание становится теоретически неоправданным: все необходимые сведения о семантических сходствах и различиях между синонимами могут быть извлечены автоматически — наложением одного толкования на другое и выяснением того, какие их части совпадают, а какие различны.
|
То есть, когда мы станем роботами, нам уже не надо будет ни о чем задумываться, мы будем автоматически счастливы.
Разумеется, всякое формалистическое заблуждение лишь преувеличивает какие-то черты живой действительности. Представители разных культур так или иначе учатся общаться друг с другом, и может сложиться впечатление, что это у них врожденное. А если кто-то вдруг отказывается нас понимать — дело вовсе не в нас, и уж конечно не в классовых противоречиях, а в чисто физиологической ущербности нашего оппонента...
На самом же деле неформальное общение возможно лишь там, где оно осмысленно — то есть, в совместной деятельности. Если господа считают рабов говорящими орудиями, если компьютер для нас — лишь инструмент, нам незачем искать взаимопонимания, достаточно отдать правильную команду. Но когда партнеры по общению преследуют каждый свои цели, объединить усилия может только общий мотив, по отношению к которому разные действия разных людей приобретают одинаковый смысл. Место каждого в совместной деятельности определяет тот самый контекст, в котором развертываются иерархии значений. Поскольку же субъект не обязательно представлен единичной биологической особью, он может быть и группой людей, строение иерархии значений у членов одной общественной группы в определенном смысле оказывается одинаковым, а обращения этой иерархии дают все формы синонимии. В некоторых общественных условиях форма деятельности как бы "застывает", многократно воспроизводится без существенных изменений. Обычно это означает свертывание деятельности в действие, а составляющие его действия превращаются в рутинные операции. Вот такая, свернутая иерархия и становится предметом формальной семантики. Истоки синонимии скрыты, контексты как будто существуют сами по себе, и нет никаких оснований предпочесть одну абстрактную классификацию другой. Иначе говоря, пока мы тупо делаем свое дело, не задумываясь о смысле происходящего, — наш язык также превращается в набор формул, в соответствии с операциональным составом наших действий. Развитие общества неизбежно размывает замкнутые субкультуры — и потому всякая формализация исторически ограниченна.
Двигаясь в противоположном направлении, замечаем, что общность деятельности не зависит от языка — и возникает, так сказать, обобщенная синонимия, когда сопоставляются языковые конструкции разных языков. Многоязычный словарь тогда связывает выразительные средства нескольких языков в рамках определенной культурной сферы. Принципиально это ничем не отличается от обычного толкового словаря — здесь можно говорить о языке более высокого уровня, о синтезе языков. Упрощенными вариантами такого подхода могут служить разного рода разговорники, параллельные словари (например, визуальные), многоязычные терминологические словари (где заведомо имеется общая предметная основа).
Наконец, пару слов о том, что Ю. Д. Апресян считает новаторством, главным выражением современности подхода. В духе все той же абстрактной аналитичности, предлагаются принципы разведения синонимических рядов и разделения толкования и иллюстраций. О пустоте формальных "толкований" уже говорилось; наиболее ценная часть словаря — это как раз иллюстрации. Именно иллюстрации показывают, как значения слов меняются от одного контекста к другому — то есть, по сути, и дают подлинное толкование. Что же касается разведения синонимических рядов, тут придется обратиться к основам, к различным способам введения семантических категорий.
Полисемия — характерная черта всех естественных или искусственных языков; например, в языках программирования свойства и методы класса или его отдельных представителей могут быть переопределены — и одно и то же "лексическое" выражение отвечает очень разным интерпретациям. Недостатком традиционных словарей Апресян считает опору на слово, без учета возможных "параллельных" значений, которые, на его взгляд, друг с другом не связаны и существуют сами по себе. Например, вебстеровский синонимический ряд mend, repair, patch, rebuild предлагается расчленить на несколько рядов, поскольку, например, слово mend якобы имеет три разных значения: ремонтировать (to mend one’s dress), улучшать (to mend one’s manners) и заживать (slowly mending wound); точно так же каждый из остальных членов ряда имеет по видимости различные значения. Легко видеть, что подобное "разведение" полностью основано на интуиции русскоговорящего; с точки зрения американца существенных различий тут нет. Аналогично, попытка противопоставить обладание некоторым свойством внешнему выражению этого свойства (stupid man — stupid look) отражает чисто русское восприятие английской лексики; здесь важно отметить, что представители разных культур по-разному видят мир, и критерии сопоставления культурных реалий в разных языках различны, так что признаки, которые кажутся важными русскому, вовсе не обязательно столь же существенны для американца. С другой стороны, когда слово threaten порождает целых три синонимических ряда с толкованиями: "обещать причинить зло", "предвещать неприятности", "угрожать", — даже русскому такие семантические тонкости кажутся притянутыми за уши.
Слово многозначно. И связано это, прежде всего, с употреблением одного и того же слова в разных контекстах. Попытки противопоставить эти контексты друг другу, формализовать различия, сделать их нормативными — могут опираться лишь на очень серьезные культурные основания, а отнюдь не на абстрактно-семантические критерии. Например, наряду с полисемией есть и такое языковое явление как омонимы. И в том, и в другом случае одна языковая форма выражает разные стороны действительности — как отличить одно от другого? Начинаются ссылки на индивидуальные предпочтения: "если большинство людей видит в двух совпадающих словах общий оттенок смысла, то это — полисемия, а если не видит, то это — омонимия". Кто по жизни станет подсчитывать голоса? Не проще ли считать омонимами все отдельные значения многозначных слов, а полисемию — частным случаем омонимии?
Конечно, подобная конвенциональность, произвол в базовых категориях не делает честь высокой науке. За различием значений и омонимов, по хорошему, должны стоять какие-то объективные обстоятельства. И наша задача их вытащить на свет разума.
Например, русское слово "убить". Если в таких контекстах как "убить соседа", "убить аккумулятор" или "убить собеседника" еще можно проследить общее семантическое ядро вроде "постоянно или временно привести в недееспособное состояние" (что, впрочем, с тем же успехом выражают и некоторые другие слова) — то выражение "убить пару часов" в эти рамки никак не вписывается (если, конечно, не вдаваться в сложные метафоры). Так что, будем разводить значения в разные ряды (полисемия) — или считать, что речь идет об одинаковом лексическом оформлении разных идей (омонимия)? По интуиции, слово "убить" похоже в этом отношении на слово "нос", несколько меньше — на слово "коса", и совсем не похоже на "фокус". В чем разница? Да все в том же — в отношении к деятельности. Если в определенных исторических рамках культурные явления, представленные общей языковой формой, возможно трактовать как обращения одной иерархии, если между ними есть прямая или опосредованная связь, — это полисемия, и отдельные значения отвечают объективным условиям деятельности. Если же (в тех же рамках) единства деятельности нет — вот вам омонимы чистой воды. Разумеется, в развивающемся мире все меняется — рвутся старые связи, возникают новые. Однако если сохраняется принцип категоризации, наука лишь обогащается знаниями о путях развития, развивается вместе со своим предметом. Поскольку же прошлое не исчезает бесследно, оно незримо присутствует в каких-то гранях настоящего и будущего, полезно время от времени читать словари — безотносительно к их активности, многоязычию или новизне.
|